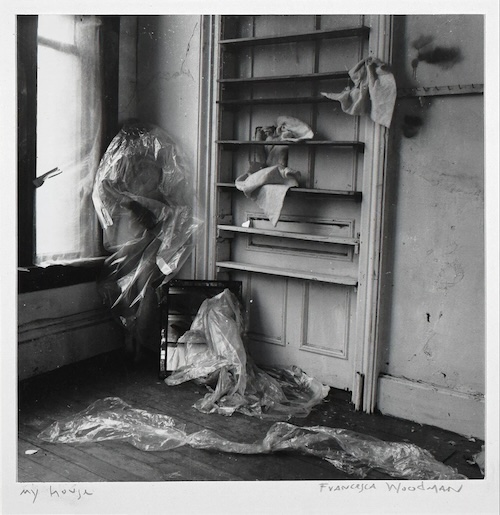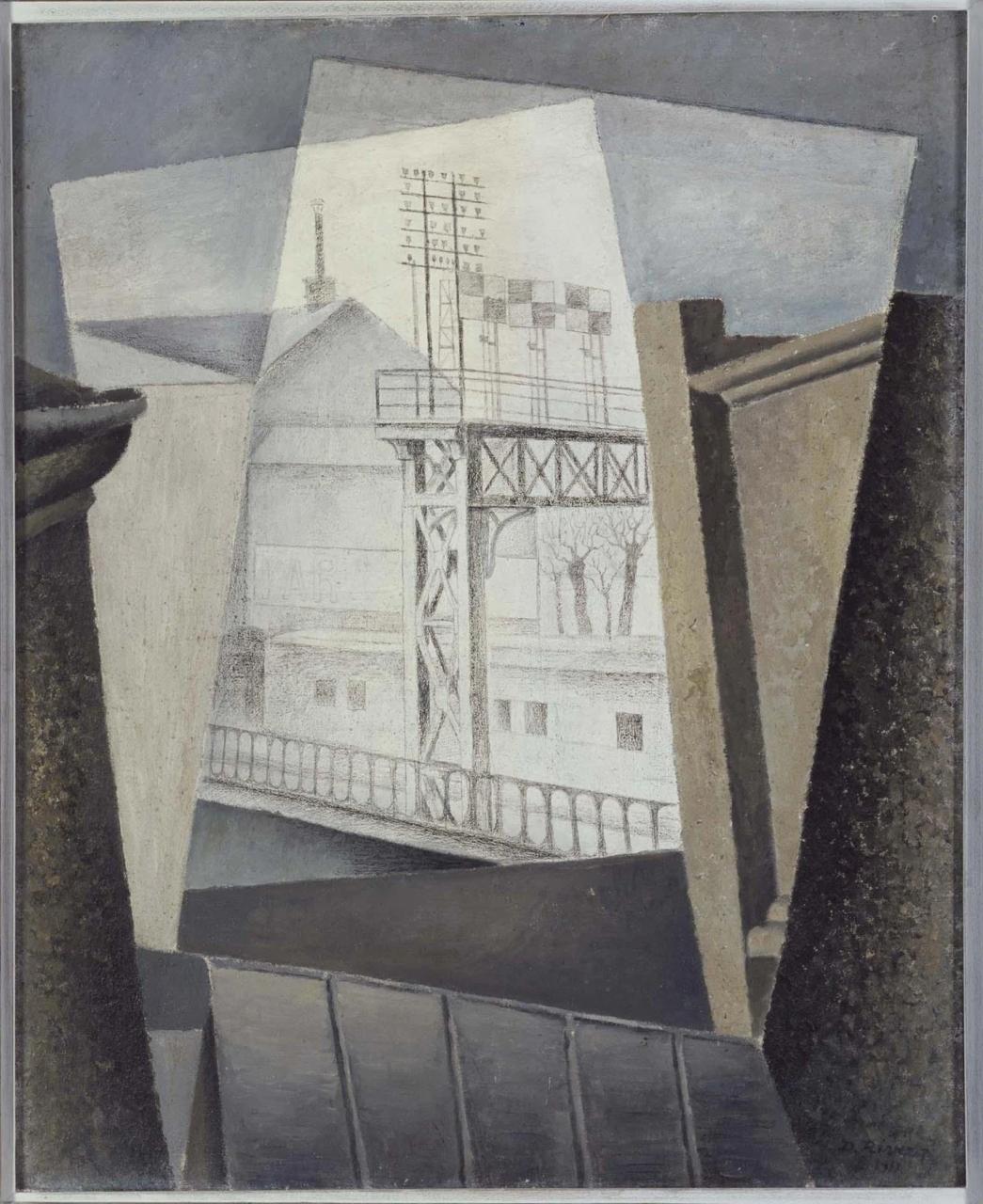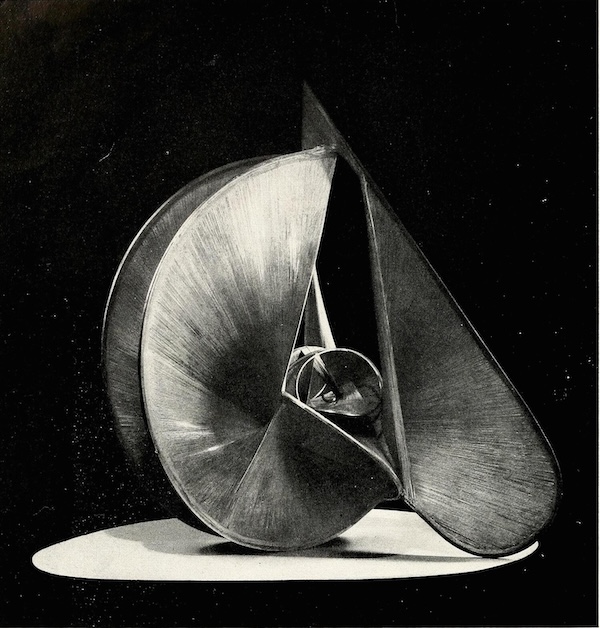Несмотря на нарастающее экономическое и демографическое давление, Владимир Путин, похоже, не собирается отступать и готов продолжать вкладывать ресурсы в войну и подавление несогласных. Причина в том, что ситуация пока не достигла катастрофического уровня, считает декан и профессор экономики Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев. Что может заставить Россию сесть за стол переговоров, меняется ли общественное мнение внутри страны и как в этой ситуации действовать западным лидерам? Об этом Гуриев рассуждает в колонке для Project Syndicate.
История учит, что либерализм не всегда побеждает через силу или моральное превосходство: иногда его стратегия заключается в том, чтобы просто пережить бурю. Но что значит «выжить» в современном постлиберальном мире, когда старые институты под давлением популизма перестают работать, а привычные идеи демократии и верховенства права утрачивают эффективность? И способны ли либералы адаптироваться к новым формам радикализма, которые размывают границы между левыми и правыми? Об этом подробно рассуждает глава Центра либеральных стратегий Иван Крастев; пересказываем его эссе с сокращениями.
Человечество привыкло искать причинно-следственные связи и управляемый замысел даже тогда, когда сталкивается с очевидным хаосом и случайностью. С чем связана эта когнитивная жажда определенности и почему она становится уязвимостью современного мышления? Можно ли системно посмотреть на историческую науку не как на набор знаний о прошлом, а как на особый способ видеть и понимать всю сложность мира? Об этом рассуждает Фрэнсис Гэвин — профессор и директор Центра глобальных исследований Генри Киссинджера в Университете Джонса Хопкинса.
Еще не так давно люди по всему миру могли смотреть на Европу и США как на доказательство того, что экономический рост, социальная справедливость и политическая свобода не только совместимы, но и взаимно усиливают друг друга. Теперь же, когда силу по всему миру набирает авторитаризм, где можно искать демократические ориентиры? О том, пример каких стран может вдохновить приверженцев демократии, рассуждает Дани Родрик, профессор международной политической экономики в Гарвардской школе управления Кеннеди.
Тоби Гати — о том, как советник Путина изменил мнение о США и что это значит для Украины
В мире, где американская внешняя политика слишком часто лишена стратегического фокуса и формируется ограниченными и порой не связанными между собой политическими интересами, а российская внешняя политика сосредоточена на восстановлении геостратегической мощи и национального величия, отношения между США и Россией прошли путь от прагматического сотрудничества к более настороженному и конфронтационному взаимодействию. В статье, опубликованной в Politico Magazine 15 августа 2025 года, Тоби Гати, сопредседатель Совета директоров Школы гражданского просвещения и бывшая советница президента США Билла Клинтона по России, Украине и странам Евразии, рассматривает, как со временем изменились взгляды главного советника Путина по Америке Юрия Ушакова и российского правительства; где проходит грань между личными контактами, деловыми интересами и официальной внешней политикой России; как Россия будет выстраивать отношения с президентом США, который «и не враг, с которым нужно бороться, и не друг, которому можно доверять»; и что все это означает для американо-российских отношений и будущего Украины.
Можно ли выстроить современный мировой порядок, сбалансировав национальные интересы государств и потребности людей? Что может сделать гражданское общество в условиях растущего авторитаризма, социального неравенства и глобальных кризисов? Пересказываем выступление профессора международных отношений Кирсти Стувой (Норвежский университет наук о жизни) на форуме Школы гражданского просвещения «В поисках утраченного универсализма».
Глобальные потрясения и обострение международных конфликтов неизбежно влекут за собой переосмысление роли ведущих держав, международных альянсов и личной ответственности каждого человека. Как война в Украине меняет роль и влияние Евросоюза на мировой арене? Сможет ли Европа противостоять вызовам без поддержки США, и что это значит для будущего континента? Как ответственность — личная и общественная — могут помочь в преодолении современных политических и социальных кризисов? Пересказываем выступление редактора Financial Times Джона Ллойда на форуме Школы гражданского просвещения «В поисках утраченного универсализма».
Мир вступил в эпоху, когда старые правила больше не работают: Запад, привыкший быть гарантом порядка, оказался разобщен и колеблется перед лицом вызовов, которые еще недавно казались невозможными. Сможет ли Европа выжить без американского «зонтика»? И где пройдет граница между свободой и авторитаризмом в XXI веке? Об этом рассуждала обозреватель Le Monde Сильви Кауффманн на форуме Школы гражданского просвещения «В поисках утраченного универсализма».
В эпоху глубоких геополитических потрясений и затяжного конфликта между Россией и Украиной вопрос о построении устойчивого мира стоит особенно остро. Что может помочь преодолеть системное насилие и способствовать восстановлению доверия на международной арене? Как гражданское общество может сыграть ключевую роль в трансформации политической культуры и обеспечении справедливости? Может ли гражданское просвещение внести свой вклад в создание фундамента для мирного сосуществования в будущем? Об этом рассуждает программный директор Школы гражданского просвещения Инна Березкина.
Распад постсоветской картины мира и научно-техническая революция не просто изменили ритм общественной жизни, но и радикально перестроили сам язык, на котором мы говорим о политике. Сегодня от высказываний почти ничего не зависит, а поле политической речи занято эмоциональными схватками и мифологическими нарративами. О том, почему общество гораздо прочнее скрепляет не идеология, а мифология, и как античные теоретики предсказали превращение политического языка в инструмент выражения эмоций, а не действия, рассказал филолог Гасан Гусейнов на семинаре Школы гражданского просвещения.