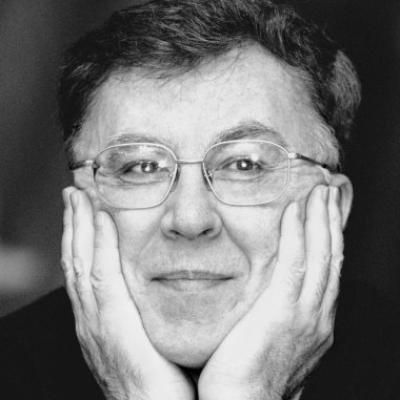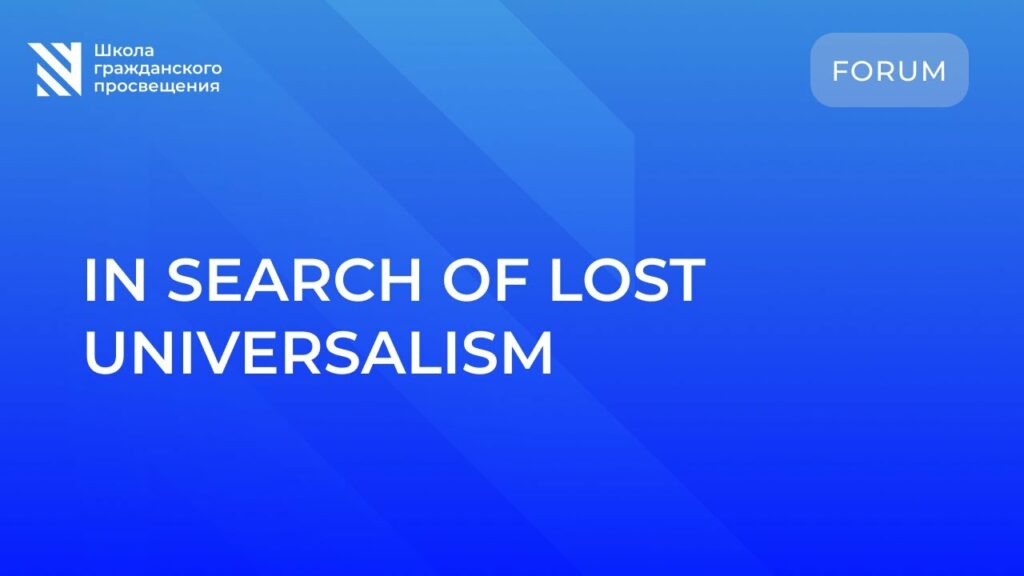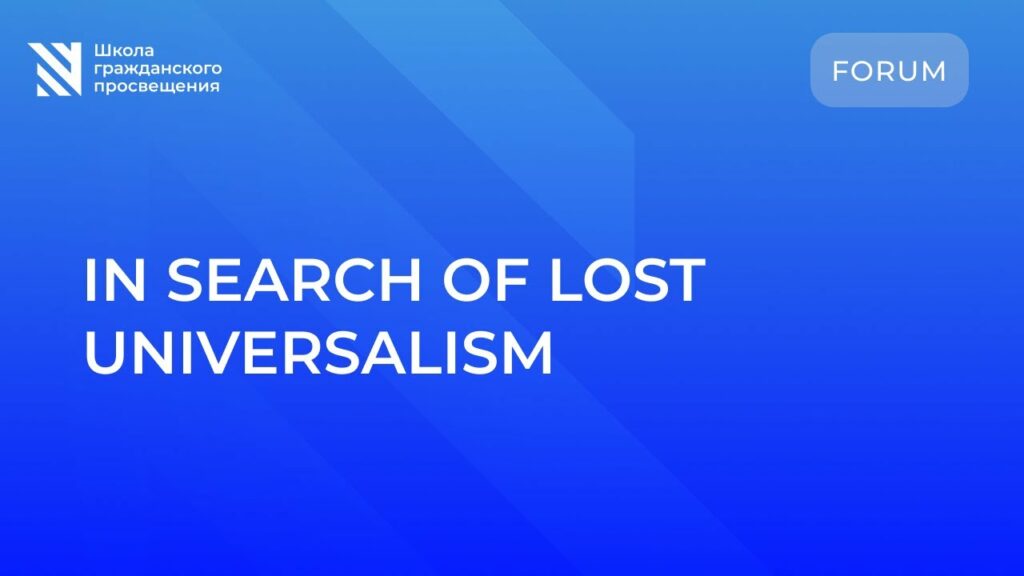И еще вопрос, как выйти с наименьшими потерями из ситуации распада страны. Тогда ведь не только Ельцину надо было принимать ответственные решения, но и россиянам. А почему это слово теперь исчезло, я думаю, понятно.
«Мы судим дела, а не людей»
Юридически мы оформили появление Школы в декабре 1992 года. А в начале апреля 1993-го прошел наш первый семинар. Участвовали в нем, если мне не изменяет память, 32 или 33 человека. Это были молодые люди, в том числе депутаты Госдумы из регионов. Мы с Леной уже тогда понимали, что надо не только говорить о том, что пережила страна, но и что-то делать практически. Что будет с Россией после распада Советского Союза, как обрушить однопартийную систему, как ввести рыночную экономику, о которой, как и о политической конкуренции, все семьдесят лет советской власти вообще не заходило речи; за все ведь отвечали партия и известная организация — ЧК, созданная в декабре 1917-го с передачей полномочий в 1922 году ГПУ при НКВД РСФСР. Как это прошлое преодолеть?
Я часто в этой связи вспоминаю слова Мераба Мамардашвили, вернее, одну из его записей дневникового характера: «Мы судим дела, а не людей, то есть состояния, а не их носителей. Людей же пусть судит Бог»
Что значат эти слова в атеистической стране?!
Как «судить дела», когда нет нормальной судебной системы? И кто должен судить?
Позднее нам стало понятно, что вместо того, чтобы снова задаваться русскими вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?», на самом деле стоило бы задуматься над гамлетовским вопросом «Быть или не быть?». Ведь в этом вопрос: быть или не быть гражданином? А также быть или не быть личностью? Быть или не быть теми, кто не задавали и не задают такого вопроса и поэтому уверено выносят приговоры, сажают, убивают, то есть те, кто воинственен?
Есть переведенная на русский язык известная лекция Сартра 1945 года «Экзистенциализм — это гуманизм». Гуманизм, по Сартру, включает в себя представление о деятельном характере человека, для которого нет другого законодателя, кроме него самого; освобождение человека происходит через его самоосуществление.
Я могу на собственном опыте рассказать, как с помощью политической пропаганды, ядром которой была классовая идеология, в СССР зомбировали молодежь и как мы освобождались от нее. В 19 лет в 1957 году после двухлетней работы на московских стройках я поступил на истфак Московского университета. То есть фактически через полтора года после XX антисталинского съезда КПСС. Тогда на семинарах мы, студенты, доводили порой преподавателя по истории КПСС своими вопросами до того, что он убегал из аудитории. Он был мужчина, но он — терялся, не зная, как и мы, ответов на наши вопросы.
Или хорошо помню, как я с моим другом Борисом Орешиным (он потом стал издателем) сидели у памятника Карлу Марксу, который поставили в 1956 году у Большого театра, и мысль у нас была одна: о чем говорить, мы же бессильны! Мы, молодые и ничего толком не знающие, мы, как нам тогда казалось, не способны что-либо изменить.
И в том же 1957 году из ГУЛАГа стали возвращаться люди, в том числе и те, кто, видимо, учился когда-то в Московском университете. Потому что я их видел на Моховой улице в университетской столовой, где в то время были бесплатный хлеб, капуста и чай. И хорошо помню свое чувство: мы знали, что людей освобождают, а вот сидишь с мрачным человеком за столом, и о чем с ним говорить? Вопрос задать? Иногда вроде бы задавали, но отвечать они соглашались не очень охотно.
Это в Москве, а что в регионах?..
И вот мы создали Школу, и сами не сразу поняли, что вопрос-то заключается в «Быть или не быть?».
Идеологии сегодня нет?
Что такое идеология?
Говорят, что это наше ценностное отношение к тому, что имеет цель и вариант ее достижения. А целью может быть какая-то форма правления: монархия, демократия, автократия или экономическая система — капитализм, социализм и т. д. То есть идеология состоит из идей о том, как должно быть организовано общество, и о методе достижения цели.
Вопрос, является ли в таком случае названное отношение действительно ценностным? А значит, и универсальным, общечеловеческим. Учитывая, что в XX веке потерпели крушение две идеологии, претендовавшие на универсальность, — фашизм и коммунизм.
Карл Маркс, как известно, написал три тома «Капитала», где доказывал, что неизбежная нищета пролетариата чревата революциями, и обосновал идею классовой борьбы и диктатуры пролетариата. Об этом сегодня редко говорят, чаще ссылаются на Маркса-экономиста. Но ведь это он породил квази-религиозную идеологию с соответствующим мифом и ритуалом поклонения пролетариату.
В последнее время нередко слышишь или читаешь, что идеологии нет. Действительно, нет. Ведь ее так просто не придумаешь. Тем более в эпоху нарастающего глобального кризиса и учитывая, что появление в XX веке философии ценностей и распространение затем «языка ценностей» на самом деле только идеологическая видимость, доступная нашему восприятию, ограниченному человеческим мозгом.
Позже я к этому вернусь. А пока лишь повторю сказанное. То, что происходит сегодня после вторжения России в Украину, и что мы переживаем — не случайно. Огромная чекистская армия никуда не делась, к ней присоединились священники, теперь выполняющие на войне роль политруков.
Все мы — граждане
Языков, как известно, много, и все они разные. В том числе и языки науки, искусства, политики, экономики, спорта. Но ведь когда-то их не было, как не было и письменности, современной техники, лекарств, одежды.
Как же все это, включая и искусственный интеллект, появилось? И как это понять, когда мы даже друг друга перестали понимать ?
Приведу вначале два-три утверждения, которые представляются мне важными для ответа.
Первое принадлежит известному французскому философу Этьену Жильсону. «Греческие философские учения, сложившиеся под влиянием греческой религии, суть философия необходимости, тогда как философские учения, находящиеся под влиянием христианства, суть философия свободы».
Вопрос: каким образом «философия необходимости» превратилась в «философию свободы» и сами будущие научные открытия и технологические изобретения европейской цивилизации повлияли на развитие мировой истории?
Необходимым, как мы знаем из физики, считается такое явление, которое происходит при определенных условиях (например, фазовые переходы). А в общественных, межчеловеческих отношениях? В связи с которыми встает второй вопрос: «Где была греческая мысль, когда греки исчезли, а адресат еще не появился?»
Ответ на него самого автора: «Впереди понимающей мысли нет ничего другого, она сама »впервые и однажды» завязывает историю».
А Жильсон, отвечая фактически на им же поставленный вопрос, писал: после того, как христианская религия во II веке вступила в контакт с философией, среди обращенных в христианство появились представители греческой культуры, поверившие в божественное происхождение и в учение Иисуса Христа (вместо олимпийских богов).
И добавляет, что в этом нет ничего от философии. Так как философия есть знание, обращенное к разуму, а христианство — учение о спасении, и потому оно — религия, которая обращается к человеку и говорит ему о его судьбе: либо для того, чтобы он ей покорился (античная религия), либо, в случае христианства, чтобы он ее сотворил, будучи свободным.
А теперь вернемся к «ценностному отношению» и к человеческому мозгу.
То, что обычно считают ценностями, философы предпочитают называть высшими объектами. Например, одним из таких объектов является истина, о которой Платон когда-то говорил, что это неизменное абсолютное свойство идеальных объектов. А сегодня говорят, что сама истина ни на чем не держится, но держит все остальное благодаря деятельной силе личности и форме, позволяющей реализовать деятельную силу как событие.
Какое отношение это имеет к человеческому мозгу?
На мой взгляд, сегодня полагаться, не задумываясь, на мозг, то же самое, что полагаться на искусственный интеллект, не обращая внимание на то, как работает живой мозг. А точнее, наши органы чувств (их шесть) — зрение, слух, восприятие гравитации, обоняние, вкус, осязание, — состоящие из нервных клеток и вспомогательных структур, которые воспринимают и первично анализируют различные раздражения, получаемые организмом из внешней и внутренней сред, и передают информацию в центральную нервную систему. И эта информация, как об этом говорится в энциклопедических словарях, получаемая головным мозгом от органов чувств, формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя.
Каким образом? Очевидно впервые в момент естественной сращенности в случае органа слуха голоса и фонемы. Или другими словами в этот момент тайны и одновременно будущей истины звук голоса стал фонемой, а затем словом и речью, а увиденное глазом обрело форму и цвет и минимальной смыслоразличительной единицы письменности в виде буквы. Так как буква не фонема. Не говоря уже о морфеме — минимальной значимой части слова. В русском языке, например, некоторые буквы (ь и ъ) вообще не передают никаких фонем, другие в начале слова и после гласных передают даже по две фонемы (я, ю, ё, е), третьи могут передавать то одну фонему, то другую (например, первое «о» в слове «корова» передает фонему «а», а во втором — фонему «о»). То же самое в английском и французском языках. Например, английское слово «дочь» состоящее из четырех фонем «дотэ», записывается восемью буквами daughter. А в иврите и арабском наоборот — гласные фонемы буквами вообще не обозначаются. Свидетельствуя тем самым о не случайном появлении разных алфавитов и письменности, математики, физики, лингвистики. Так как в названном сращении и только в нем (уже) определено, что мы слышим звук и, разумеется, продолжаем его слышать, когда говорим, но не обращаем на него внимание, потому что для нас важна речь и ее смысл. И считаем это сознанием, как и создатели искусственного интеллекта, наделяющие сознанием компьютер и забыв о неудаче создания эсперанто. То есть, не обращая внимания на природу языка, а точнее на то, что языки разные, и передать эту разность их индивидуального живого происхождения ссылками на алгоритмы и структуры данных механически невозможно.
Можно выучить стихотворение, прочитать философский текст или запомнить афоризм, но быть поэтом или философом значит обладать врожденным чувством сращенности живого голоса и живого смысла слов.
И отсюда предупреждение философа о том, что «наша мания мыслью заменить акт жизни мешает нам понять происходящее». Почему? Потому что под мыслью, когда мы говорим, мы обычно имеем в виду конкретное слово, а акт жизни подтверждает подобно документу случившееся со-бытие.
«Жить — разве это не значит как раз быть чем-то другим, нежели природа?» — писал Ницше в книге «По ту сторону добра и зла».
Назову три известных слова: бытие, весть и знание (они есть и в других языках), важные для ответа на вопрос, что такое сознание, свобода и личность. И добавлю, что к ним можно относиться как к витаминной добавке для пожилых людей, а к Школе мы с Леной относимся именно как к просветительской добавке для молодых людей.
Все мы граждане по паспорту той или иной страны, и все не раз слышали фразы «случилось событие», «у человека есть совесть», «пришел в сознание». Однако мы повторяем их скорее по привычке, не задумываясь над тем, почему каждое из названных трех слов начинается с приставки «со», то есть значимой части слова, стоящей перед его корнем.
Ответ, на этот вопрос для меня очевиден: понимание того, что человек узнал, начинается с просвещения, поскольку именно свет ума позволяет увидеть полученное знание не только ясно, но и отчетливо. Ясно во время получения профессии и отчетливо уже в зрелом возрасте. Если не забывать о кантовской Педагогике.
В сознании упаковано все прошлое и одновременно вечное, уже случившееся однажды. Каким образом? В момент чуда тайны — со-знания, со-бытия, со-вести.
Потому что в слове «сознание», которое не относится, как и два других слова, к материальным предметам, частица «со» указывает на измерение невидимого. Или, другими словами, на факт вербализованного человеком знания в состоянии подобном озарению, в котором оно получено. Так же, как и в слове «совесть». Но что это за состояние, обозначенное Декартом как cogito (мыслю), явно указывающее на некий первичный и не поддающийся суду метафизический акт, конституирующий человека в качестве личности и одновременно выделяющий ее в виде морального феномена в этике и культуре? То есть когда моральный поступок не выводим напрямую (формально логически) из понятия совести, поскольку иначе было бы легко совершать такие поступки. А когда они совершаются, мы узнаем, что они соответствуют ему. И узнаем об этом не во время суда, осуществляющего правосудие.
Так как же это происходит? Ведь люди продолжают совершать нравственные поступки не потому, что соотносят при этом слово «добро» и слово «зло» и думают, что добро обязательно победит зло. Но тем не менее совершают их, без каких бы то ни было на это причин, подобно библейскому Иову. Тогда как человек в состоянии недоверия, а тем более агрессии, всегда находит причину. А у добра, как и совести (то есть полученного откуда-то знания — вести) нет причин. И поэтому такое знание не передаваемо, поскольку оно не передается механически, сколько бы мы не повторяли, что нужно «иметь совесть», «жить не по лжи», «перестать грабить и воровать».
Следовательно, понять и описать феномен морального, нравственного поступка (не забывая, что русская нравственность от слова «нрав») можно лишь посредством символических — философских понятий, метафор, парадоксов, художественных образов.
И к сказанному добавлю ответ на еще один вопрос: помогает ли нам в таком случае знание о прошлом понять настоящее как современное?
Помогает, так как известно, что слово modern (новейший, современный) появилось в европейских языках накануне Реформации — на фоне кризиса средневековых представлений о человеке — и восходит к латыни, в которой наречие modo означало «как раз теперь», «только что», «здесь и сейчас». Это понятие общей новизны и образа жизни, отличного, по выражению Бринтона, от образа жизни предков в том смысле, что переживая прошлое в настоящем, европейцы в то время стали осознавать прошлое как современное. Хотя человек всегда, конечно, жил в «современную» ему эпоху, но не удивлялся этому факту. А гуманисты, открыв античное наследие, удивились и изобрели метафизическое понятие, в свете которого история вместо прежнего, эсхатологического ее переживания (о «конце света») предстала как вечное настоящее или вечно новое, относящееся, как сказал бы сегодня философ, к области пространственно-временной феноменологии события знания.
«Я знаю, что ничего не знаю, а другие и этого не знают», — отвечал когда-то Сократ своим оппонентам. В этом сосредоточенном желании (поскольку здесь важен акцент на слове «знаю») удержать нечто, что открывается на границе знания о неизвестном, и заключена драма человеческой свободы. И разыгрывается она в зависимости от человеческих способностей и усилий к творческому созидательному существованию. Это и есть собранность человека в цивилизации, наследующей дух античности и христианской религии.
Гражданское просвещение — «витаминная добавка» к любой профессии. Все мы — читатели, зрители, болельщики, потребители — разные, но мы граждане. Это наш школьный девиз: «Все мы — граждане!»
Гражданское общество необходимо государству в качестве свободного и законного оппонента для защиты граждан, когда не работает правовая система из-за отсутствия правовой культуры и адвокатуры. Притом, что есть прокуроры, есть слуги. И тем самым существует соответствующее гражданское общество, подчиненное государству государственным же властным насилием и террором.
Появление же независимого гражданского общества радикально меняет авторитарную государственную систему благодаря появлению двух и более конкурирующих партий, каждая из которых в результате выборов может стать правящей.
Ответственность за поезд надежды
Из опыта собственной жизни я знаю, что есть вера, есть доверие, а еще есть убеждение. В русском языке слово «убеждение» есть и употребляется, а, например, в английском его нет, во всяком случае в нашем понимании. Между тем в четырехтомном знаменитом словаре Даля убеждению посвящено больше страницы. И в качестве примера приводится, в частности, фраза: «Убедила меня смерть жены».
А «смерть Христа», множественное насилие?..
Убеждает беда. Убеждает трагедия. Ужас 1930-х годов.
И как продолжать жить, когда юристы снова восстанавливают право делать то же и так же, как в сравнительно недавнем прошлом?
В детстве у меня был друг Сережа Островский. В день своего рождения, который я помню, он позвал в гости нас, 7−8-летних, и меня в том числе. Дело было в Восточном Казахстане, в поселке Белоусовка, где папа Сережи был директором рудника. Потом во время кампании против космополитизма его арестовали, а что стало с Сережей, я не знаю. Но в тот день рождения Сережи его отец обратился к сыну и одновременно ко всем нам: «Представьте, вы — машинист паровоза. Паровоз большой, 15 вагонов. Вагоны разные. И количество пассажиров тоже разное. В одних по 20 человек, в других больше. В некоторых 30, а в одном 12. Сколько машинисту лет?» И я сказал: «Ему 7 лет!» Отец посмотрел на меня: «Правильно! Сереже сегодня 7 лет. И ты — тоже машинист, тебе сколько лет?..».
Может быть, это было первой прививкой личной ответственности за дело, которое делаешь, прививкой не только для меня. Ответственность за поезд надежды, за поезда, которые мы ведем и в которых едут люди.
Почему мы создали Школу? Потому что, видимо, судьба, и потому, что исповедовали философию свободы.
В 1963 году, когда я уже закончил истфак, именно судьба свела меня с о. Александром Менем, с Евгением Барабановым, с Владимиром Кормером, с Михаилом Меерсоном.
В библиотеке ИНИОН, которая находилась тогда на улице Фрунзе, где я работал после окончания университета, у меня была возможность читать журналы «Большевик», «Новый мир», «Октябрь» и т. д. И в «Большевике» я увидел, что во второй половине 30-х годов на последней странице каждого номера публиковался список репрессированных и приговоренных к расстрелу граждан СССР, а в Известиях Российской Академии наук в начале 1920-х годов в рубрике «Скорбная летопись» — фамилии тоже репрессированных, умерших от голода и болезней в разных городах страны ученых. И мы на наших встречах стали это обсуждать, а затем с Женей Барабановым ходили в Ленинскую библиотеку смотреть российские газеты, выходившие до 1918 года в Москве и Петербурге, и составлять библиографию статей запрещенных при советской власти авторов русской религиозно-философской мысли — Бердяева, Франка, Флоренского, Лосского и других. А также занялись самиздатом книг этих авторов.
А потом произошла моя встреча с Мерабом Мамардашвили, которая сыграла в нашей с Леной жизни, не боюсь это сказать, решающую роль.
С одной стороны — богослов и священнослужитель, с другой стороны — философ. И моя лично страсть не к истории как к науке, а к философии истории, заставила меня думать.
И когда мы с Леной создавали Школу, мы очень хотели видеть молодых думских депутатов за одним столом с нашими друзьями — послами, журналистами, политиками, юристами, экономистами, чтобы вместе обсуждать российские проблемы.
Так родилась Школа для вас — «машинистов» поездов, которые вы ведете с «витаминной добавкой» в виде гражданского просвещения.