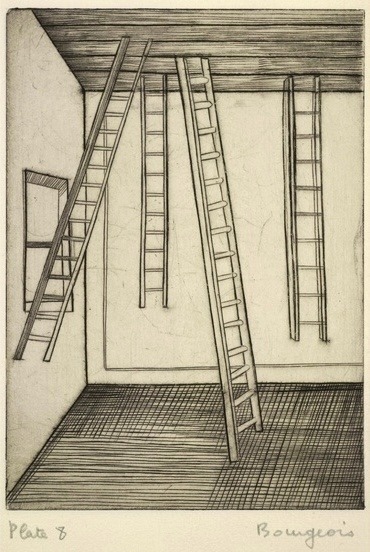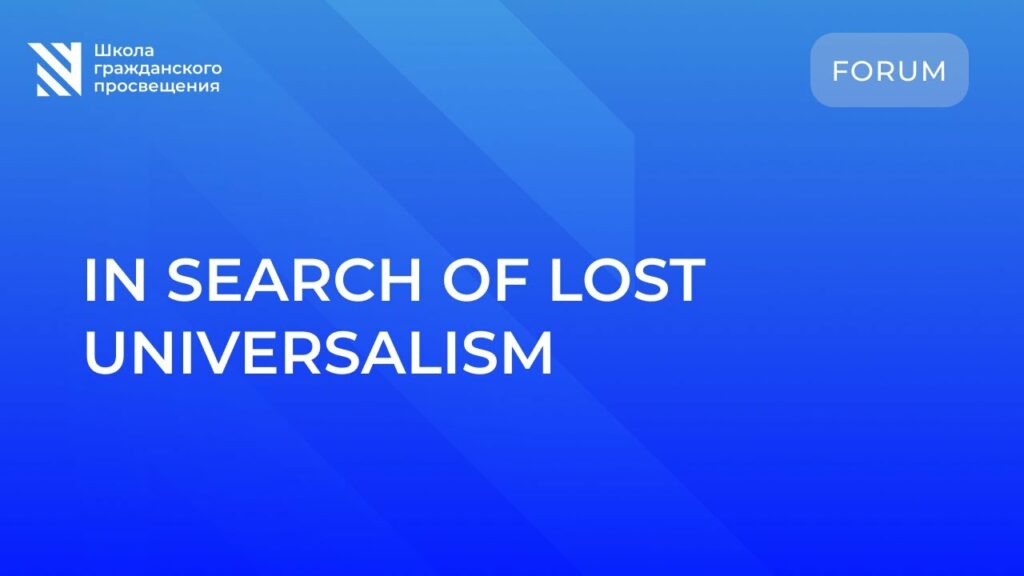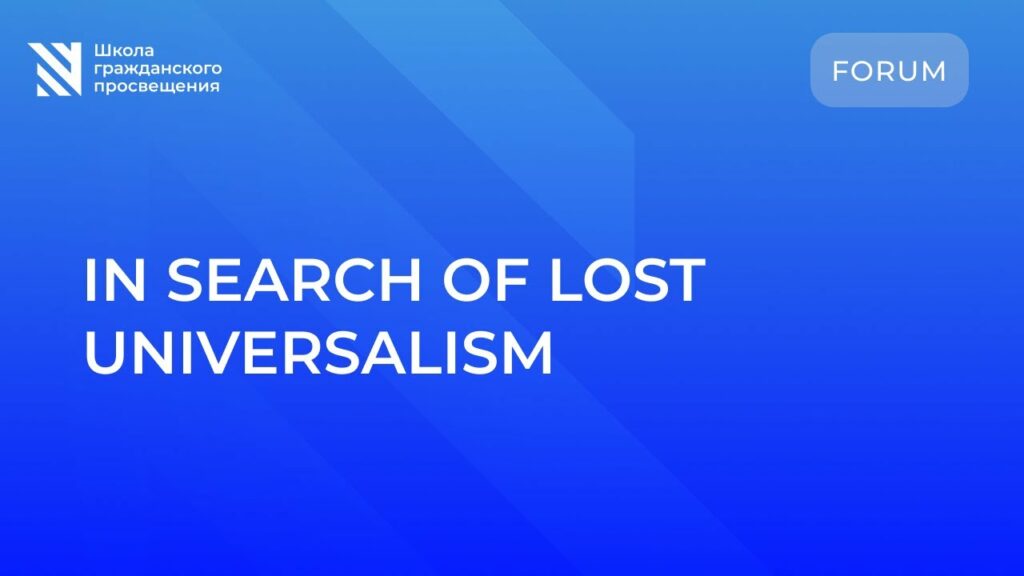Полтора года спустя, 31 декабря 1976 года, произошло нечто, на первый взгляд, незначительное, но напрямую связанное с Хельсинкским актом. В дверь нашей квартиры позвонил незнакомец. Я открыл — он протянул мне конверт и велел передать отцу. Потом скрылся.
Этот человек рисковал: наша семья находилась под постоянным наблюдением. Он, вероятно, надеялся, что в канун Нового года тайная полиция устроила себе выходной. В конверте было несколько страниц машинописного текста под заголовком «Заявление Хартии-77» («Prohlášení Charty 77»). Среди подписантов были друзья моего отца: философ Ян Паточка (он умер через три месяца после восьмичасового допроса), драматург Вацлав Гавел и бывший политик Иржи Гаек.
<…>
Коммунистический режим считал Хельсинкский акт своей победой: ведь Запад фактически признал советскую империю, включая Чехословакию, равноправным партнером. То, что Чехословакия при этом обязалась соблюдать права человека, расценивалось как несущественная уступка, о которой гражданам даже необязательно было знать. (Хотя текст соглашения можно было прочесть в Сборнике законов, где он был опубликован 13 октября 1976 года.)
Хартия-77 была точечным ударом: она обвиняла режим в невыполнении тех обязательств, которые он официально на себя взял в Хельсинки. Когда в январе 1977 года манифест опубликовали западные газеты, режим (вполне справедливо) воспринял это как прямое покушение на свою легитимность.
Даже сами подписанты не ожидали, что эффект будет столь мощным. За этим последовала волна беспрецедентных репрессий, а также масштабная пропагандистская кампания в защиту режима. По всей стране на публичных собраниях сотни тысяч человек голосовали за резолюцию с осуждением Хартии-77 — хотя подавляющее большинство даже никогда ее не читали. Перепечатка документа была строго запрещена.
Тысячи представителей культуры — актеры, музыканты, писатели — были вынуждены подписать эту резолюцию в поддержку режима. Самые знаменитые чехословацкие артисты выступали по телевидению, публично осуждая Хартию-77. Это было настоящим торжеством конформизма и трусости. После 1989 года эта «анти-хартия» превратилась в своего рода доску позора, и многие из тех, кто ее подписал, позднее публично извинялись.
Тем не менее тогда казалось, что Хельсинкский акт — это победа коммунистических режимов. Жестокие репрессии против чехословацких диссидентов лишь подтверждали это. Я был не одинок в своем ощущении, что попытки Запада наладить отношения с советской империей — это предательство миллионов людей, угнетенных коммунизмом. Я был убежден: никакой «диалог» между демократическим Западом и восточными диктатурами невозможен.
Переломный момент
Пятнадцать лет спустя оказалось, что я ошибался — и что ошибались и коммунистические диктатуры. Торговля с Западом, на которую они возлагали надежды как на способ укрепления своих экономик, не смогла преодолеть их технологическую отсталость. А западные гарантии невмешательства не смогли остановить внутреннее разложение советской империи.
Также стало очевидно, что провозглашенная в соглашении приверженность миру — не более чем иллюзия. Все 1980-е я прожил в атмосфере истерического страха. Ежедневно коммунистическая пропаганда пугала нас предупреждениями о «нейтронной бомбе» и «звездных войнах», якобы готовящихся Америкой.
Пацифисты из Западной Германии, организовавшие массовые марши против размещения американских ракет «Першинг» в Европе, были охвачены той же истерией. Но, к моему изумлению, они не протестовали против советских ядерных боеголовок, нацеленных на их собственные города. Как лаконично заметил Франсуа Миттеран, выступая в немецком Бундестаге: «Ракеты — на Востоке, пацифисты — на Западе». До сих пор мы не знаем точно, сколько таких ракет было размещено в Чехословакии.
Мне казалось, что Хельсинкский акт стал просто клочком бумаги — еще одним международным документом, к которому никто не относился всерьез. Но, как позже сказал Генри Киссинджер, «переломные моменты часто остаются незамеченными современниками».
Этот «переломный момент» тогда выглядел как формальность, с помощью которой Запад пытался облегчить свою совесть за то, что бросил Восточную Европу на произвол Сталина. Но на самом деле это было нечто большее. Это была та самая знаменитая «третья корзина» Хельсинкских соглашений, включавшая формулировки о правах человека и гражданских свободах.
То, что коммунистические государства сочли лишь декоративным приложением к международному договору, де-факто закрепляющему нерушимость ялтинского раздела Европы, со временем оказалось молотом, который стал методично разрушать бетонную конструкцию советской империи.
Тем не менее тогда, в Чехословакии конца 1970-х и начала 1980-х годов, Хельсинкский акт казался всего лишь продолжением старой реальности — только в еще более мрачной форме. Вацлав Гавел провел в тюрьме четыре года; мой отец — больше года. Преследование диссидентов стало еще жестче, тайная полиция изменила тактику: помимо бюрократического давления, она начала избивать хартистов, терроризировать их и выдавливать за границу.
В Польше коммунисты жестоко подавили движение «Солидарность», ссылаясь на то, что Хельсинкские соглашения признавали право государств делать у себя все, что они хотят. Чехословацкие коммунисты тоже часто прибегали к этому аргументу. Любую западную критику репрессий против диссидентов они гневно отвергали как «вмешательство во внутренние дела».
У меня не было никаких оснований полагать, что что-то может измениться. Я был убежден, что защищать свою свободу придется самому, без помощи Запада, и что это станет делом всей жизни. Мне и в голову не могло прийти, что коммунистический режим падет еще при моей жизни.
Но что-то начало меняться. В 1970-х я ни разу не встречал ни одного человека с Запада — до 1989 года у моей семьи даже не было паспортов, так что о поездках не могло быть и речи. Однако после 1980 года незнакомцы время от времени звонили в нашу дверь, представляясь журналистами или профессором из Оксфорда, приехавшим прочесть лекцию по философии тем немногим диссидентам, для которых интеллектуальное вознаграждение перевешивало риск быть увезенным полицией на допрос.
Все это выглядело как антропологическое полевое исследование — мы, жители коммунистического заповедника, становились объектом изучения чужой цивилизации. Люди из другой цивилизации начали приезжать в нашу коммунистическую глушь, и я был поражен, обнаружив, что они интересуются нами. У меня не было никаких иллюзий, что визиты с Запада что-то изменят. Но открытие того, что за железным занавесом живут люди, которые думают о свободе так же, как и мы, имело огромное значение для нас и для меня лично. Если бы не то, что произошло в Хельсинки, они бы вообще никогда не смогли посетить Чехословакию.
Где-то во второй половине 1980-х председатель Хельсинкской федерации по правам человека Карел Шварценберг приехал в Братиславу. Отец пригласил его к нам на ужин. Я спросил Шварценберга, как ему, человеку, официально считавшемуся врагом чехословацкого государства, удалось пересечь границу. Он просто улыбнулся и ответил: «Они были обязаны меня впустить».
И тогда я, наконец, в полной мере понял, что означал Хельсинкский Заключительный акт.
От мягкой силы — к ее исчезновению
В то время в Чехословакии стали множиться инициативы и объединения вроде Хельсинкского комитета или Движения за гражданские свободы — их стало так много, что режим уже не мог подавить все. Все они были вариациями Хартии-77. И все ссылались на Хельсинкский Заключительный акт.
Эти организации основывались на концепции прав человека, легитимность которой коммунисты формально признали еще в 1975 году. Все они делали ставку на диалог, несмотря на то, что власти упорно отказывались его вести. Поэтому у меня не было причин менять свою позицию. Я искренне восхищался воображением и стойкостью хартистов, но сам по-прежнему не желал вести переговоры с режимом, построенным на насилии.
Склеротические коммунистические системы Восточной Европы, вероятно, рухнули бы сами по себе — и без Хельсинкского акта, и без его третьей корзины, и, возможно, даже без диссидентов. Но тогда этот крах лишился бы своей ключевой составляющей: этоса прав человека, который воплощали диссиденты и который был сформирован на основе тех самых хельсинкских формулировок.
Сегодня часто предполагается, что именно права человека привели к падению коммунизма — будто это был естественный или даже неизбежный процесс. Совсем не факт. И пример Китая — яркое тому подтверждение. Права человека стали действенным политическим инструментом перемен лишь благодаря воображению и упорству диссидентов на Востоке и активистов на Западе. Без этих людей Заключительный Хельсинкский акт остался бы пустой декларацией.
Идея прав человека помогла странам Центральной Европы пройти путь к демократии с поразительной скоростью. Этот процесс сопровождался мощным диссидентским нарративом, культивируемым прежде всего Вацлавом Гавелом, который в декабре 1989 года стал президентом Чехословакии. В посткоммунистических странах, где к власти не пришли диссиденты — например, в бывшей Югославии, Румынии или Болгарии — переход занял гораздо больше времени. В некоторых случаях, в том числе в России, он и вовсе провалился.
Но при всем том, что «мягкая сила» Хельсинкского акта, несомненно, ускорила крах коммунистической империи, она не имела за собой силы «жесткой». Если государство решало просто игнорировать этот документ — он становился бессильным. Он оказался бессильным, когда СССР вторгся в Афганистан в конце 1979 года. Он был бессилен перед сербским национализмом, который уничтожал жизни в Сараево, Сребренице и Косово в 1990-х. Он так же бессилен перед российской агрессией в Украине сегодня.
Это не упрек в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая строится на моральных принципах свободы и прав человека, закрепленных в Хельсинки. Но ее авторитет исчезает в тот момент, когда государство открыто издевается над этими принципами.
Россия — яркий пример. В первой половине 1990-х Борис Ельцин настаивал на том, чтобы Запад сосредоточился на сотрудничестве в рамках ОБСЕ, а не на расширении НАТО на Восток. (Хотя сам же Ельцин публично признал в Варшаве в 1993 году, что именно Хельсинкский акт дал государствам право «выбирать свои союзы».) Я начал воспринимать ОБСЕ как риск — боялся, что Запад согласится играть по правилам России. Без силовой составляющей ОБСЕ не могла гарантировать защиту новорожденного и хрупкого государства, в котором я жил. Тогда Словакией правил Владимир Мечьяр — авторитарный популист, которого Ельцин называл своим другом.
Иными словами, организация, которой при коммунизме я был благодарен за ее поддержку диссидентов, вдруг превратилась в символ опасного компромисса между Россией и Западом. Я не хотел полагаться на ОБСЕ в вопросе своей свободы — потому что знал, что она не способна ее защитить. Войны в Югославии стали трагическим подтверждением этого. Я боялся, что Запад отступит, а ОБСЕ послужит для этого удобным предлогом. Только когда стало ясно, что Словакия станет членом НАТО и ЕС, мой страх утих.
С тех пор я потерял интерес к ОБСЕ. И не я один. За последние два десятилетия — сколько раз ОБСЕ привлекала внимание европейских медиа? И снова — это не упрек. Хельсинкский акт подписывался в эпоху, когда Запад и Восток стремились избежать войны. Тогда большинством государств руководили политики, пережившие Вторую мировую.
Пятьдесят лет спустя мир изменился до неузнаваемости. Россия ведет войну против Украины, игнорируя международные договоры и соглашения. Будапештский меморандум 1994 года, подписанный Россией, США, Британией и Украиной, который должен был гарантировать украинский суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия, стал просто клочком бумаги. То же самое — с «Минскими соглашениями».
В мире, где международные договоры больше не работают, ОБСЕ — это организация без реального авторитета. В странах, где права человека массово нарушаются, возможно, диссиденты еще ощущают интерес ОБСЕ к своей судьбе. Это лучше, чем ничего. Но мягкая сила Хельсинкского акта исчерпана — именно потому, что современные авторитарные режимы даже не делают вид, что уважают его принципы.
<…> Исторический момент, в котором мы живем сегодня, тоже требует воображения от тех, кому небезразлична демократия. И суть воображения в том, чтобы придумывать новое. Старые формулы больше не работают. Прошлое не повторяется.
Возможно, именно сейчас мы находимся в еще одной переломной точке. Точке, значение которой мы, современники, пока еще не осознаем. Было бы хорошо, если бы она происходила под эгидой ОБСЕ. Но, боюсь, это не так.