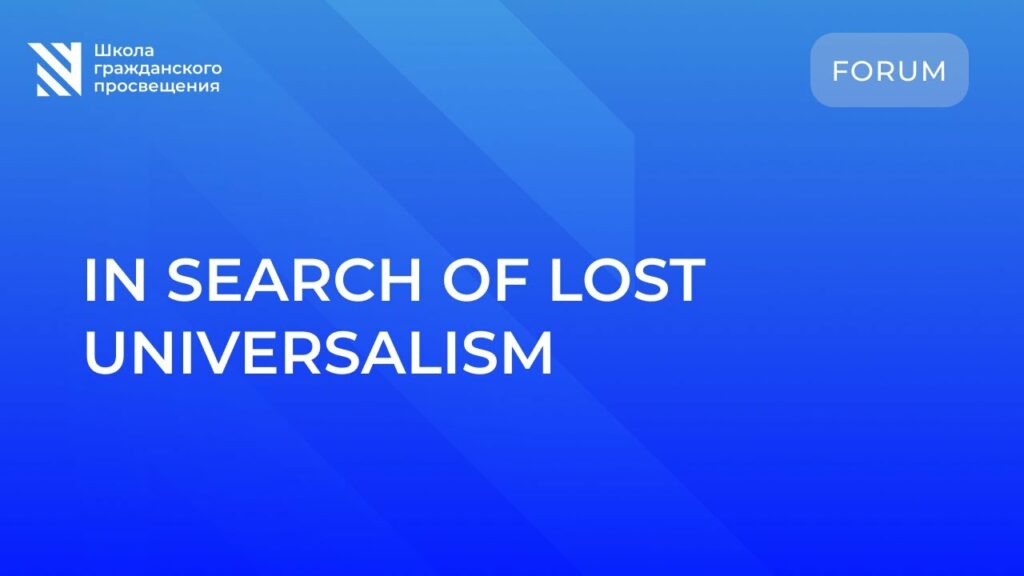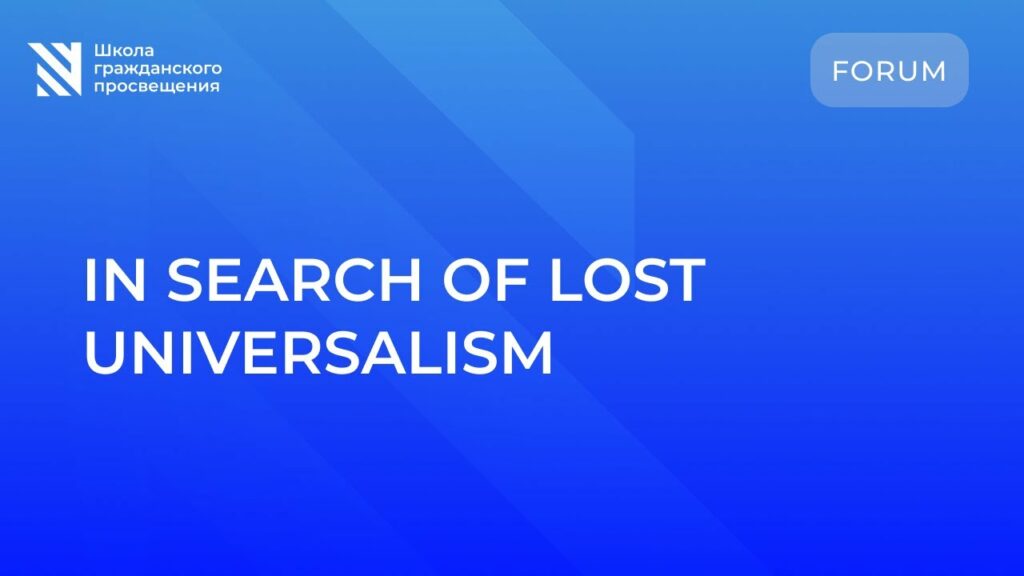Милтон Фридман, считавший, что жадность нормальна и выгодна, получил Нобелевскую премию по экономике — но ведь получила ее и Элинор Остром, показавшая, что разные общества умеют управлять общими ресурсами сообща, без жесткой руки государства.
До сих пор в северных странах существует так называемое Allemansrätten — «право каждого» или «право на природу». Это значит, что там нет заборов — и не должно быть. Можно зайти на частную территорию, собрать ягоды, поставить палатку, если она не слишком близко к дому, и пожить там пару дней. Частная собственность в этих странах не понимается как абсолютное, незыблемое право. Вы можете просто подойти — я сам это делал — к дворцу норвежской королевской семьи и позвонить в дверь. Нет ни заборов, ни солдат, которые бы вас остановили.
У нас богатейшая история человечности, но мы словно «пастеризовали» ее, вычистили живое, превратив представление о достойном человеке в карикатуру. Патрик Динан, автор книги Why Liberalism Failed, вышедшей в 2018 году, считает, что либеральная современность унаследовала огромный капитал — и растранжирила его быстрее, чем могла восполнить. Мы хорошо знаем этот принцип из экологии: современность потребляет природные ресурсы быстрее, чем природа успевает их восстановить. Динан говорит и о социальном капитале, который современность тоже израсходовала быстрее, чем могла восстановить: доброжелательность, доверие, чувство товарищества и даже любовь.
«Без доброжелательности все превращается в сделку»
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда мы здороваемся друг с другом? Мы жмем руки, говорим «привет», киваем. Но рукопожатие — это древнегреческий обычай: его смысл в том, чтобы показать — в твоей руке нет ножа. Если вспомнить авраамические религии — pax vobis, «мир вам»; shalom aleichem и salam alaikum — почти одни и те же слова в иудаизме и исламе, и все они значат: «я пришел с миром». В Южной Азии говорят namaste — «я почитаю божественное в тебе» — и этот поклон тут же возвращается. Одно из самых красивых приветствий — из Южной Африки: sawubona — «я вижу тебя». Казалось бы, если я тебя приветствую, значит, я тебя уже вижу — зачем это повторять? Но смысл в том, что «я вижу тебя как носителя прав, достоинства и значения».
У майя в Центральной Америке приветствие означает: «я — это другой ты». А последователи суфийского поэта XIII века Руми, если постучаться к ним в обитель, спрашивают: «Кто там?» — если ответишь «Это я», дверь не откроют. Нужно сказать: «Это ты». Потому что в дом впускают только того, кто осознал, что мы — одно и то же. Если ты видишь себя отделенным, чужим, — тебе не место внутри.
Почему же столь разные народы, культуры и эпохи пришли к одной и той же грамматике приветствия? Может быть, потому что в начале любого взаимодействия нужно установить доброжелательность. Без нее все превращается в сделку. А с ней — в отношения.
Современные исследования, например, работы Лаборатории трудных разговоров при Колумбийском университете, показывают: если я не услышу от тебя три положительных высказывания, я не восприму твою критику. В романтических отношениях этот баланс еще строже — пять к одному: нужно пять раз услышать что-то доброе, прежде чем появится готовность услышать упрек. Доброжелательность — это основа любых отношений. И отношения начинаются только тогда, когда установлено доброе намерение.
«Необязательно сходиться во мнениях, но необходимо соприкасаться»
Я бы добавил, что нам необходимо любопытство. Мы должны находить друг друга достойными нашего интереса. Если у нас есть любопытство и готовность создавать доверие, возникает нечто поистине волшебное — разговор. Я рискну сказать, что разговор — это величайшее изобретение человечества. Слово conversation происходит от con versare — «меняться вместе». Необязательно сходиться во мнениях, но необходимо соприкасаться: чтобы я мог проникнуть в твою мысль, а ты — в мою.
Разговор перестает быть разговором, если вероятность того, что ты изменишь меня, равна нулю, а вероятность, что я изменю тебя, реальна. Это уже спор. В споре мы кричим друг на друга, как борцы на арене. Мы начинаем его уже «готовыми продуктами»: я — завершен, ты — завершен, и ничто не может нас сдвинуть. Но разговор — иное. Меняться вместе не значит становиться одинаковыми. Это значит, что наша кожа проницаема: я могу достучаться до тебя, а ты — до меня. Эразм Роттердамский перевел первую фразу Библии не как «в начале было Слово, и Слово было у Бога», а как «в начале был разговор, и разговор был Богом».
Теперь сравним это с современными исследованиями. Ученые из Чикагского университета провели эксперимент. Обычно люди едут на работу в центр Чикаго на поезде около тридцати минут. Исследователи дали участникам подарочную карту Starbucks на 5 долларов и разделили их на три группы: первая должна была вести себя как обычно; вторая — быть более общительной, чем вчера, и завести разговор; третья — наоборот, быть менее общительной и не вступать ни с кем в контакт. Перед поездкой их спрашивали, как, по их мнению, это пройдет, а после — как они себя чувствуют. Самыми пессимистичными в начале оказались те, кому поручили быть более общительными. Но именно они по возвращении оказались самыми счастливыми. Выходит, стоит нас чуть подтолкнуть — и мы обнаруживаем, что хороший разговор приносит куда больше радости, чем мы ожидали.
Еще одна центральная тема — ответственность. Это слово происходит от response — «ответ». И в русском так же: ответственность — это обязанность дать ответ. Я чувствую ответственность только тогда, когда ты существуешь в моем сознании, в моей моральной вселенной. Если же тебя там нет, я могу делать все, что угодно, не чувствуя вины. Лишь когда мы живем вместе, сталкиваемся с общими испытаниями и формируем общую совесть, возникает подлинная ответственность.
И наконец — возможно, самая рискованная мысль, — любовь. Любовь тоже является основой общества. Но не в смысле голливудских романтических комедий. Мартин Лютер Кинг, размышляя о любви, использовал слово agape — древнегреческий термин, которым в Библии обозначается бескорыстная, всеобъемлющая любовь. У древних греков было еще два слова: philia — дружеская привязанность, и eros — страсть. Eros — предсказуем, телесен. А philia всегда частична: если я испытываю philia к России, то, возможно, в чем-то теряю ее по отношению к Германии или Украине; если я болею за «Ливерпуль», то не могу одновременно болеть за «Арсенал».
Agape же — иное. Это любовь, не знающая противопоставления, не исключающая других, любовь как фундаментальное признание нашей общности. Но agape — это, по сути, не романтическая любовь, а, вероятно, то, что сегодня можно назвать доброжелательностью. Любовь как врожденное свойство человека, в XXI веке можно выразить так: «могу ли я искренне желать тебе добра?». Когда в Бирмингеме был взорван баптистский храм на 16-й улице и погибли три четырнадцатилетние девочки, Мартин Лютер Кинг не сказал: «Я ненавижу белых» или «Я желаю им смерти».
Он вышел перед церковью и произнес: «Я не откажусь от своих белых братьев. Я верю, что каждый способен осознать достоинство и святость человеческой жизни. Я не хочу их уничтожить — я хочу построить с ними лучший мир».
И не он один. Зоран Джинджич, премьер-министр Сербии, говорил своим сторонникам: «Если, глядя на полицейского, вы видите лишь полицейского, а не человека — вы не сможете построить лучшую Сербию». Подобные шаги предпринимали многие — польские епископы, когда 50 лет назад написали письмо немецким епископам; Джон Кеннеди, когда произнес свою «речь о мире» и говорил о русских не как о врагах, а как о людях. Любопытная закономерность: все эти люди сталкивались с покушениями. Я не знаю, что с этим делать — но, видимо, когда ты проявляешь слишком много agape, ты становишься мишенью.
«Если мы действуем ради результата, может, не стоит и начинать»
Современный философ, кореец по происхождению, живущий в Германии, — Бён-Чхоль Хан, говорит: раньше репрессии заключались в том, чтобы запрещать — пытки, тюрьмы, удары; сегодня система угнетает нас тем, что разрешает все, потому что теперь мы сами стали продуктом. Мы непрерывно «продаем себя» — вот откуда такая активность в соцсетях. Мы все время стараемся произвести впечатление, показать, какие мы замечательные. И потому мечемся между нарциссизмом, синдромом самозванца и выгоранием. Мы думаем, что мы — лучше всех, и одновременно чувствуем, что мы никогда не дотягиваем. Никому больше не нужно нас эксплуатировать — мы сами себя эксплуатируем. А социальные сети зарабатывают на страхе и поляризации.
Это и есть те самые «встречные ветра», которые мешают человеческому взаимопониманию. К ним добавляется искусственный интеллект. Скоро у нас будут чат-боты, которые всегда нас хвалят, никогда не спорят, и мы, возможно, предпочтем дружбу с ними разговору с живыми людьми, как в чикагском поезде.
Но сдадимся ли мы? Делаем ли мы то, что мы делаем, лишь потому, что уверены в успехе? Или потому, что не можем не делать? Если мы действуем ради результата, может, не стоит и начинать. Но если мы делаем это с людьми, которых уважаем и любим, если сам путь приносит радость и цель кажется достойной, тогда надо продолжать.
Мне 57 лет, и — возможно, это приходит с возрастом — постепенно я понял, что большинство вещей, к которым мы стремимся, так и не будут достигнуты. И меня это вполне устраивает. Я стремлюсь к ним не потому, что они достижимы. Я делаю это потому, что это достойные цели, за которые стоит бороться. А еще потому, что в этом процессе встречаю необыкновенных людей, и именно их общество вдохновляет меня продолжать.
Участникам нашей Школы в Стамбуле мы говорим: любопытство и хороший разговор — единственные приоритеты. Любопытство — важнее возмущения. В мире есть множество поводов для гнева, но, по-моему, мы гневаемся слишком быстро. Надо дать друг другу шанс. Мы предупреждаем: если вы пришли сюда, потому что нашли все ответы и хотите изменить других — вы не туда попали. Но если вы считаете, что жизнь и люди, сидящие с вами в кругу, достойны вашего интереса — мы гарантируем вам восемь удивительных дней.
Мы просим участников поэкспериментировать с тем, что такое хороший разговор.
А он начинается с умения слушать. Сегодня все учат «ораторскому мастерству», «убойным презентациям», «искусству речи» — но никто не учит искусству слушания. Мы часто слушаем лишь для того, чтобы ответить. Ждем, когда человек замолчит, чтобы произнести свою «умную» реплику и показать, как мы начитанны. Но слушаем ли мы, чтобы понять? Что человек хочет сказать? Откуда он говорит?
Слушание — это акт намерения: ты мой противник, которого я хочу победить, или ты — «другой я», которого я хочу понять? Есть ли в нашем разговоре предпосылка доброй воли? Мы объясняем это участникам в первый день — и хотя поначалу им это кажется странным, уже через сутки они входят в этот ритм. Наши группы крайне разнообразны: у нас бывают расисты, радикальные националисты, исламисты, ЛГБТ-активисты — все оттенки политических взглядов. Мы провели уже около двадцати пяти таких школ. Я точно знаю момент, когда они становятся друзьями — и это происходит всегда.
Так что разговор приносит плоды. Хороший разговор — удивительно простая вещь, но его отсутствие имеет колоссальную цену.