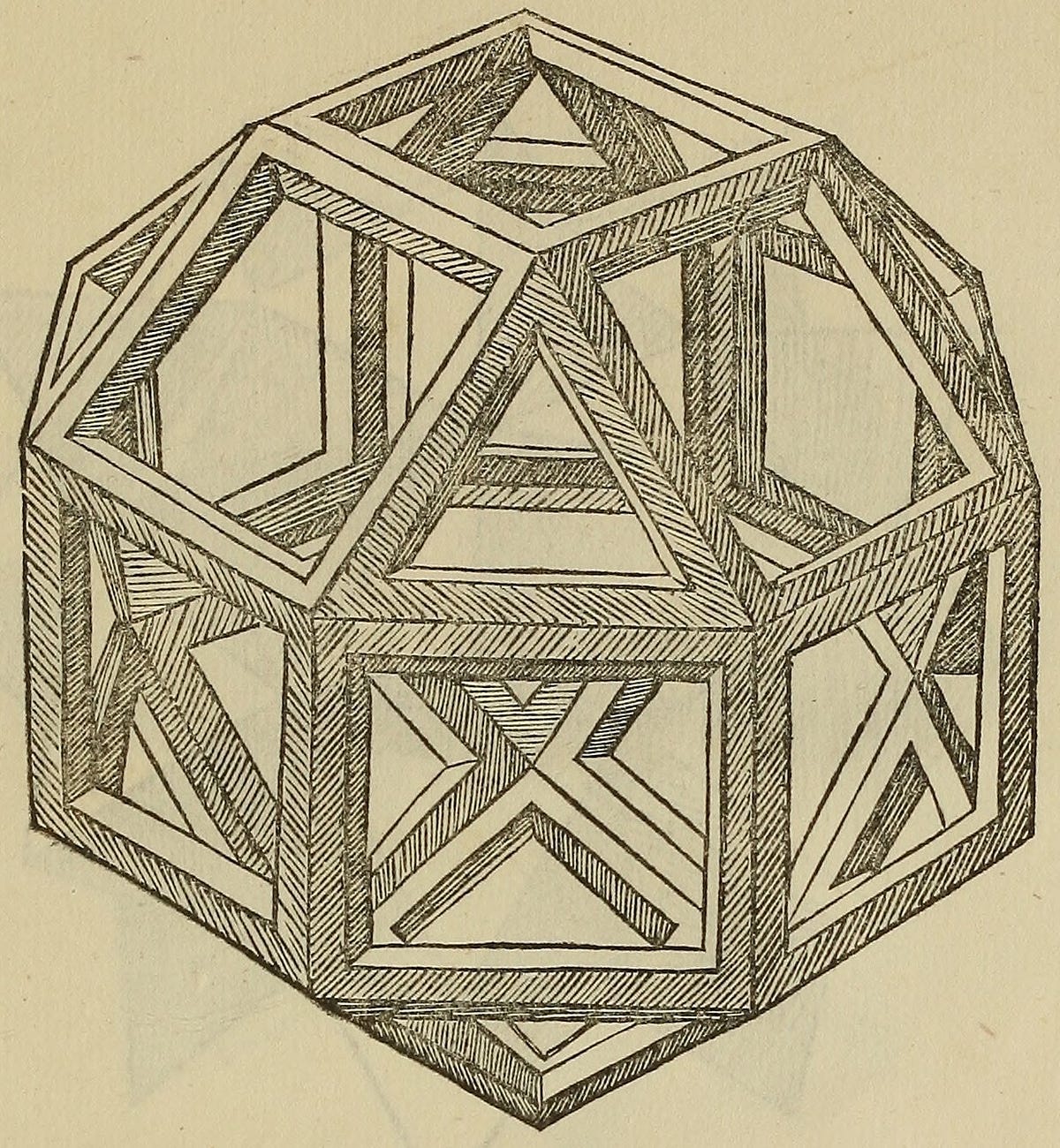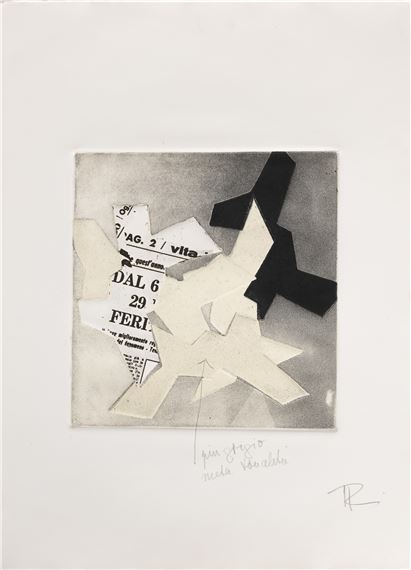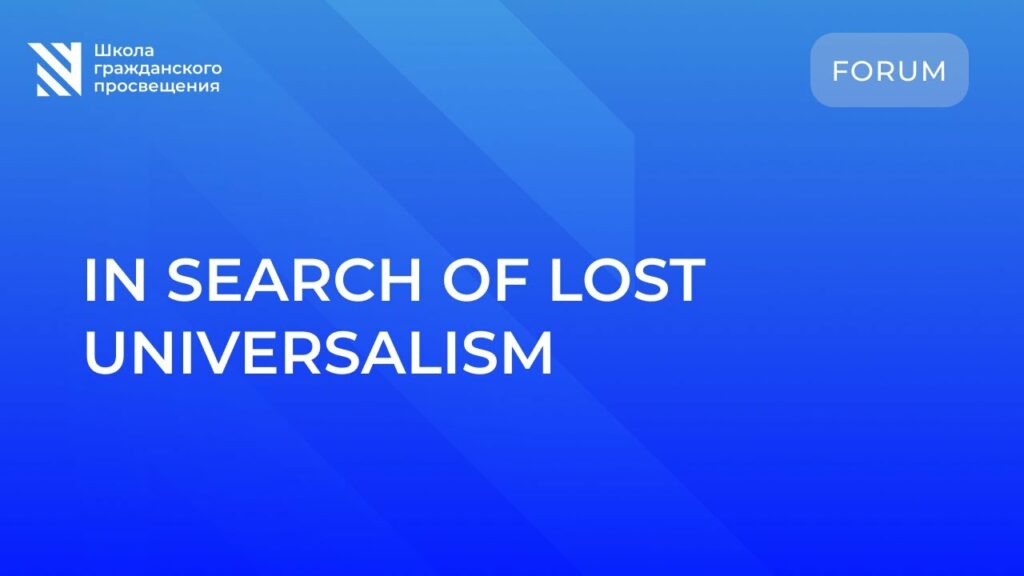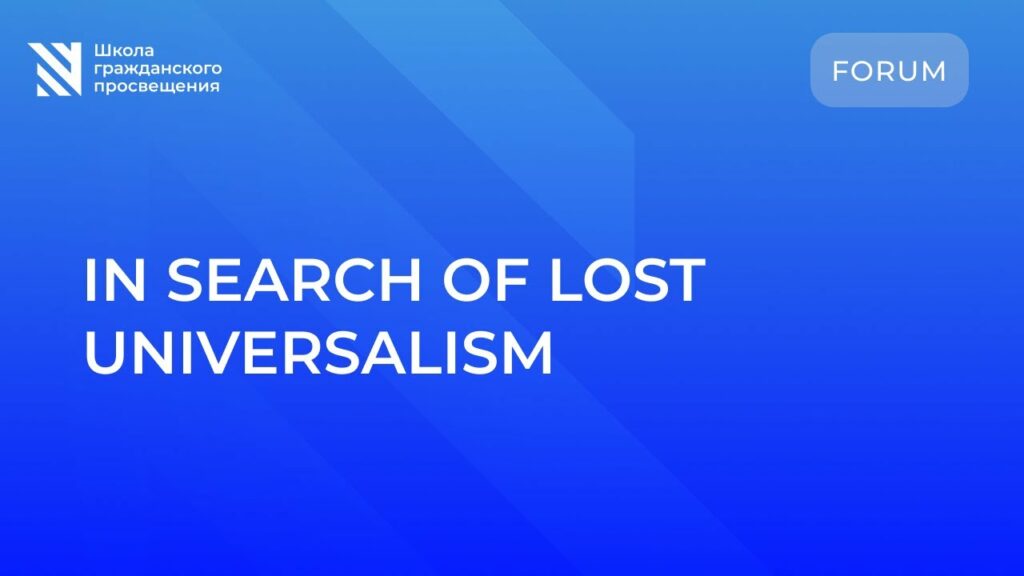Первый этап — вторжение в Ирак в 2003 году. Оно показало, что Запад, сколько бы он ни говорил о «порядке, основанном на правилах», сам решает, какие правила действуют и когда, и не считает себя связанным ими. Прежде всего речь, конечно, о США.
Второй этап — глобальный финансовый кризис 2008 года. Он продемонстрировал, что Запад больше не представляет собой образец для подражания, не воплощает модель глобального совершенства.
Третий этап — вялая реакция Запада на аннексию Крыма Россией в 2014 году. Это показало, что, несмотря на всю риторику о «правилах и принципах», Запад не готов идти до конца. Путин сделал ставку на то, что западный эгоизм перевесит западную совесть — и, к сожалению, оказался прав.
Четвертый этап — президентство Дональда Трампа. До него ни один американский лидер не выводил США из такого количества международных институтов и соглашений. Не менее примечательно и то, что европейские правительства в целом приняли это без возражений.
Пятый этап — реакция Запада на пандемию COVID-19. Она показала, что Запад заботится лишь о себе, о собственных интересах, а остальной мир — сам по себе. Так утвердился образ международного порядка как системы, созданной Западом для Запада.
Наконец, шестой этап — ошибки администрации Джо Байдена. Несмотря на некоторые успехи, его президентство ознаменовалось катастрофически организованным выводом войск из Афганистана, застойной политикой в отношении Украины, пассивностью перед лицом действий Биньямина Нетаньяху в Газе и, наконец, личными слабостями самого Байдена. Интеллектуальная и физическая усталость Байдена стала метафорой ослабления Запада. И экранный образ все более немощного Байдена на фоне энергичных Си Цзиньпина и Владимира Путина создал крайне неблагоприятное, почти символическое сопоставление.
«Никаких серьезных последствий за нарушение правил не наступает»
Многие критики Запада утверждают: мол, не происходит никакого настоящего распада международного порядка — просто рухнул либеральный, западный порядок, а ему вскоре на смену придет новый. Но это не так. Сегодня в мире нет всеобъемлющей международной системы. Либеральный порядок распался, но признаков появления нового — не видно.
Иногда говорят о «миропорядке под эгидой ООН». Это — фикция. Никогда не существовало миропорядка, основанного на ООН. Во времена Холодной войны ключевые решения принимались в Москве и Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Да, ООН играла важную роль, но все же второстепенную. Нам нужно быть реалистами: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция не откажутся от своих привилегий в Совете Безопасности ООН. Вероятность этого меньше нуля. Поэтому попытки реформировать Совбез — пустая трата времени и сил. Нам нужно трезво оценивать пределы возможного.
Другая популярная идея — это «многополярный мир». Однако, во-первых, я не считаю, что современный мир действительно многополярен. А во-вторых, что еще важнее, многополярного порядка не существует. Настоящий многополярный порядок предполагает, что великие державы — «полюсы» международной системы — договариваются между собой об общих правилах взаимодействия и сосуществования. Но сегодня этого нет.
Мы видим, как Си Цзиньпин выдвигает разные глобальные инициативы: «Инициативу глобальной цивилизации», «Инициативу глобального развития», «Инициативу глобальной безопасности», а недавно — на саммите ШОС — «Инициативу глобального управления». Но ничего из этого — не реальная программа действий. Китаю гораздо комфортнее существовать в рамках нынешней системы, чем брать на себя ответственность за ее реформирование. Китай предпочитает говорить общими фразам — «взаимовыгодное сотрудничество», «гармоничное сосуществование» и тому подобное, — но на деле не проявляет желания нести бремя глобального лидерства.
И, наконец, особенно в последний год, мы наблюдаем проявления антиутопического мировоззрения Дональда Трампа в отношении мирового порядка — а может, правильнее сказать, мирового беспорядка. У его концепции множество проблем, но главная в том, что она ничего не предлагает остальному миру. Принцип America First («Америка прежде всего») фактически означает Everyone Else Last («все остальные — после»).
Произошла также деуниверсализация международных норм. Сегодня нет консенсуса в том, какие правила существуют, кто их устанавливает, кому они должны применяться и когда. Разговоры о «международном праве» уже мало соотносятся с реальностью. Место верховенства права заняло верховенство беззакония. Нарушение правил стало повсеместным. Это делают не только великие державы — все. И делают, потому что могут ссылаться на двойные стандарты, оправдывать свои действия «реальной политикой», а главное — потому что никаких серьезных последствий за нарушение правил не наступает. Санкции, конечно, есть, но на реальные решения они почти не влияют.
«Великие державы никогда не были столь слабы»
Тем временем мир сталкивается с «идеальным штормом» угроз и вызовов: неконтролируемым изменением климата, глобальными пандемиями, застоем в борьбе с бедностью, технологической трансформацией, информационной революцией и, разумеется, растущим геополитическим напряжением и конфронтацией. Возрождение международного порядка в таких условиях — центральная задача нашего времени. И не потому, что сам по себе порядок — это некая безусловная добродетель, а потому что без него человечество попросту не сможет справиться с глобальными угрозами.
Что же может сработать? Каким должен быть новый порядок? Прежде всего, нужно отказаться от старого мышления. Признать, что прошлые модели — какими бы эффективными они ни казались в свое время — больше не обеспечивают жизнеспособного глобального управления в XXI веке.
Самое очевидное — отказаться от идеи американского глобального лидерства. Да, США по-прежнему останутся крупнейшей мировой державой, но это совсем не то же самое, что быть лидером, за которым идет весь остальной мир.
Также необходимо покончить с представлением о «правлении великих держав». Сегодня снова говорят о «новой эпохе империй», о «сферах влияния», но реальность в том, что великие державы никогда не были столь слабы в способности влиять на поведение других стран. Их влияние ослабло, их могущество во многом иллюзорно. Современные державы стоят на глиняных ногах.
И, наконец, нам следует признать ограниченность геополитики и «жесткой силы». Разумеется, геополитика и военная мощь имеют значение, но баланс между ними и другими приоритетами сегодня искажен. Ведь нет смысла говорить о геополитическом преимуществе, если мы не можем справиться с изменением климата, технологической трансформацией или лавиной дезинформации. Многие «вечные истины» геополитики теряют смысл, если мы не решим эти насущные проблемы. Нам необходим новый баланс в приоритетах глобального управления.
Нам нужен новый интернационализм — основанный на трех принципах:
— более широком понимании национального интереса,
— большей представительности и инклюзивности,
— признании гибкости и разнообразия.
«Государство не может выйти за рамки собственных интересов, но может переосмыслить понятие интереса»
Иногда можно услышать: «Мы должны преодолеть эгоизм, выйти за рамки собственных интересов». Я считаю это заблуждением. За последние две тысячи лет не существовало ни одного международного порядка, который бы «преодолел» собственные интересы. Фокус на собственных интересах — основа любого мирового устройства. Так что пора прекратить разговоры о некой «трансценденции» интересов. Это утопия.
Но при этом возможно, и более того, необходимо переосмыслить само понятие интереса. Здесь важны три элемента.
Первое — осознание взаимосвязанности мира. Сегодня много говорят о деглобализации, о разделении мира на блоки, о культурных, геополитических и ценностных разломах. Но реальность в том, что мир никогда не был столь взаимозависим и взаимопроницаем, как сейчас.
Второе — правильное восприятие времени. Бытует миф, будто демократическим лидерам труднее мыслить стратегически, потому что их переизбирают каждые четыре года, тогда как автократы могут планировать на десятилетия вперед. Но это не так. Вспомним Нельсона Манделу, Франклина Рузвельта, Авраама Линкольна — все они были демократическими лидерами, сумевшими сочетать тактическое мастерство с долгосрочным видением. Они понимали, что власть дана не ради власти, а ради преобразования общества.
Сравните это с Владимиром Путиным, который находится у власти уже столько же, сколько и Сталин. Чего он реально достиг? Как и многие авторитарные лидеры, он не использовал власть для реализации долгосрочного видения, потому что такого видения у него нет. Его интерес — это власть ради самой власти.
Переосмысленный интерес требует понимания, что такие угрозы, как изменение климата, — не только долгосрочные, но и немедленные. Нужно мыслить одновременно в нескольких временных плоскостях — сегодня, завтра и через десятилетия.
Третий элемент — практическая эмпатия. Многие воспринимают слово «эмпатия» как нечто мягкое, связанное с пением под гитару и объятиями. Но на самом деле эмпатия — это инструмент политического понимания. Это способность видеть мир глазами другого, понимать мотивы не только союзников, но и оппонентов, и тех, кто стоит в стороне. Это — умение мыслить категориями другого.
За последние двадцать лет многие правительства потеряли эту способность. Они были настолько сосредоточены на собственных целях, что перестали понимать, что движет другими. Характерный пример — западные политики в 1990-е годы, считавшие, что Ельцин и затем Путин смирились с расширением НАТО. Они не попытались понять логику Кремля, и потому полностью ошиблись в оценке развития России — пока стало уже невозможно закрывать глаза на последствия.
Второй ключевой элемент нового интернационализма — представительность и инклюзивность. Иногда говорят, что нельзя построить эффективный международный порядок, если в нем участвует слишком много игроков: чем больше участников, тем меньше эффективность. Но если игнорировать интересы большинства, то это большинство не будет чувствовать себя вовлеченным в систему, которую ему навязывают.
Мы видели это на примере Украины. Западные правительства были разочарованы тем, что многие страны Глобального юга заняли нейтральную позицию. «Почему они нас не поддерживают? — спрашивали они. — Разве они не видят, что Россия поступает неправильно?» Видят. Но затем они смотрят на Запад и спрашивают в ответ: «А чем это хуже вторжения США в Ирак в 2003 году?» Они видят, что Запад проявляет повышенное внимание к Украине, потому что она находится в Европе, но к их собственным проблемам и приоритетам Запад остается безразличен. Они чувствуют себя непредставленными — и это настоящая угроза. Ведь международный порядок, в котором большая часть мира не имеет голоса, не может считаться международным порядком вовсе.
«Нам нужно отказаться от иллюзии универсальных ценностей»
Третий элемент нового интернационализма — гибкость и разнообразие. Жизнеспособный мировой порядок должен уметь принимать и учитывать существенные различия во взглядах, ценностях и интересах. Гибкость здесь абсолютно необходима. И, возможно, это прозвучит спорно, но нам нужно отказаться от иллюзии универсальных ценностей. Необходимо признать, что в мире существует множество систем ценностей, часто противоречащих друг другу. Мы живем в относительном, плюралистическом мире.
С практической точки зрения это означает, что внимание следует сосредоточить не столько на том, как государства управляют собой, сколько на том, как они взаимодействуют друг с другом. Это трудное решение для либерального мышления, но, похоже, другого пути нет. Для поддержания международного порядка куда важнее поведение стран во внешней политике, чем их внутренняя структура.
Конечно, можно возразить: авторитарные режимы более склонны к агрессии, чем демократические. Иногда это так — пример России очевиден. Но Китай, например, не вел ни одной войны с 1979 года, и многие другие авторитарные режимы не проявляют внешней агрессии. Зато демократический Запад в эпоху после Холодной войны вел не одну войну. Следовательно, нам стоит судить страны по тому, как они ведут себя на мировой арене, а не по форме их правления.
***
Возглавляемый США «порядок, основанный на правилах», мертв — и его невозможно воскресить. Однако возможно построить иной порядок, тоже основанный на правилах, но более справедливый, более горизонтальный и, в конечном счете, более действенный. Разумеется, он не будет идеальным, но все же станет значительным шагом вперед по сравнению с нынешним положением дел — и уж точно будет лучше тех альтернатив, что предлагаются сегодня.