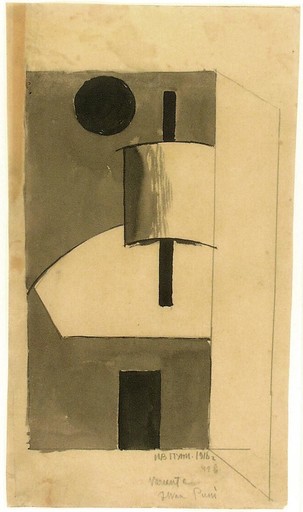И как бы вдогонку, в декабрьском номере журнала выходит знаменитый трактат Иммануила Канта (1724-1804) «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?». Традиционно ему вверялась пальма первенства в определении смыслов просвещения, но, как мы увидим, это не вполне справедливо. Знал ли Кант о публикации Мендельсона, с кем у него, кстати, были дружеские отношения, и они вели регулярную переписку? Очевидно, да, по крайней мере, он сам признавал, что нашел сноску на уже опубликованное эссе Мендельсона, прежде чем «в один присест» написать свой ответ. Подчеркну: в один присест! И свое эссе Кант датировал 30 сентября 1784 года. В заключительном примечании (оно же и единственное) он пишет: «В Еженедельных новостях Бюшинга от 13 сентября я прочитал сегодня, 30 числа сего месяца, ссылку на номер Берлинского ежемесячника за этот месяц, в котором опубликован ответ господина Мендельсона на этот же вопрос. Я этот номер еще не получил, иначе я бы воздержался от ответа на вопрос; мой ответ может быть только опытом, и случайно может оказаться, что наши мысли совпадут»[2].
Однако, я все же думаю, что трактат Канта был инспирирован всей деятельностью «Берлинского общества» и его просветительскими публикациями, в том числе и Мендельсона. О нем он не обмолвился и словом, как, впрочем, не упомянул вообще ни одного из философов в своем трактате. Формально своим текстом он отвечал только на вопрос Цёльнера, но, как мне кажется, de facto реагировал и на всё берлинское просветительское миропонимание, посылая в столицу свои «провинциальные» мысли из далекой восточной Пруссии. Как он сам написал, «мой ответ может быть только опытом».
***
К рассказу об этом курьезном казусе меня подтолкнул не столько сам историко-философский факт конгениальности просветительской мысли, сколько парадоксальное сходство и при этом фундаментальное несовпадение этих двух замечательных текстов немецкого люмьеризма, которые только в своей совокупности представляют собой подлинное поколенческое послание европейского универсализма. Кант и Мендельсон в отрыве друг от друга суть не более чем уникальные и самобытные мыслители; вместе — первооткрыватели целой эпохи.
Исследовательская литература[3] об этих небольших по объему текстов весьма солидная, их многократно издавали, анализировали и даже сравнивали, но почти никогда не рассматривали в неразрывной интеллектуальной связке. Но всё по порядку.
Версия 1.0. Базовая семантика просвещения и главное предупреждение Мендельсона
Моисей Мендельсон (Moses Mendelssohn) – удивительная и величественная фигура, которая стоит особняком в ряду мыслителей эпохи Просвещения[4]. Родился он в бедной еврейской семье, получил традиционное образование под руководством отца, с юности проявил незаурядные способности в обучении, прекрасно знал философию, теологию, владел многими языками. Был одним из духовных вождей движения еврейского просвещения «Гаскала», писал в основном по-немецки, но в поздние годы жизни и на иврите. Издавал ряд журналов, тесно сотрудничал с философом и писателем Лессингом. Их совместное творчество было проникнуто идеями просветительства, хотя по многим вопросам они беспрерывно дискутировали. Снискал громадное уважение в академической среде, дружил с обоими братьями Гумбольтами, а университетские коллеги присвоили ему кличку «немецкий Сократ». Он много занимался переводами древнееврейских текстов и ветхозаветным просвещением в целом. Мендельсон не считал противоречием следование принципам рациональной философии и одновременно почитание иудаизма. Это станет для нас главным ключом к расшифровке понимания им просвещения.
Один из интересных и расписанных в литературе сюжетов его биографии — спор с швейцарским теологом и психологом Иоганном Каспаром Лафатером (1741-1801). В открытом письме тот бросил серьезный вызов Мендельсону, предложив ему опровергнуть христианские догматы, в противном случае – оставить иудаизм и принять христианство. Выбор для Мендельсона по тем временам был сродни жизненному тупику. Ранее он спорил по этому поводу с Лессингом, который считал, что европейские евреи должны культурно ассимилироваться. Но Мендельсон был абсолютно убежден в том, что конгениальное участие людей в общечеловеческой культуре может происходить и без утраты ими своей национально-религиозной идентичности. На вызов Лафатера «немецкий Сократ» ответил открыто, иронично и уклончиво настолько, что с того времени его публичные письма воспринимаются как образец того, как верующий еврей может обойти острые углы, демонстрируя свою мудрость и просвещенную терпимость. Под давлением протестантских кругов Лафатер принес свои извинения и спор, за которым следило все просвещенное европейское общество, был вроде бы как исчерпан. Но для Мендельсона он стал поворотным в его судьбе. С рубежа 1760-1770-х годов он начал заниматься проблемами европейского еврейства. И, следует отдать ему должное, оказался именно той публичной фигурой, благодаря деятельности которой, с одной стороны, Европа стала постепенно отказываться от отчуждения евреев и положила конец геттоизации их общин, а с другой, активно приобщал евреев к немецкой и европейской культуре.
Само слово «просвещение» (Aufklaerung) вошло в обиходный немецкий язык лишь в последней трети XVIII в., а использоваться в современном понимании стало лишь с рубежа 1780-1790-х годов.[5] Быстрое присвоение публичным пространством этого понятия происходило, прежде всего, благодаря сочинениям писателей и философов, но и не в меньшей степени, если не в большей, в этом следует видеть заслугу журналистов и публицистов из разношерстной немецкой «моральной периодики» того времени, эффективно тиражировавшей просветительские идеи и развивавших новый общественно-политический лексикон на страницах своих изданий. Нередко именно периодике XVIII в. вручают венок «подлинных просветителей» эпохи.
Этим удобным для философской «интриги» обстоятельством – то есть фактом лексической новизны и отсутствием конвенциональных значений — Мендельсон воспользовался, дабы выстроить основной каркас своего очерка «Что значит просвещать?»[6]. Он начинает с собственного прочтения (точнее: прояснения) смысла трех слов, разместив их в единое семантическое поле: «образование», «культура», «просвещение». Для него они суть равнозначные понятия (gleichbedeutenden) и являются модификациями одного и того же феномена, а именно — «жизненной коммуникации» и усилий человечества, направленных на улучшение своего социального состояния (geselligen Zustand zuverbessern).
Итак, цель ясна и предмет обозначен. И сделано это Мендельсоном в полном соответствии с духом европейского просвещения, его пафосом прогресса и приоритета человеческого счастья. Более того, Мендельсон придает просвещению удобную форму вполне современного схематизма. С этой дорожки просвещенная мысль уже не уйдет в последующие столетия. Схема останется неизменной. Но что-то в ней еще не хватало?
Конечно же, человека действующего. В рационально-просветительской упаковке «предназначения человека». Мендельсон использует светское и религиозно не сильно окрашенное понятие «Bestimmung», а не лютеранское «Beruf», и напрямую увязывает с образованием (Bildung). Получается, что тот народ «образованнее», у которого искусства, общественное прилежание и осознание людьми своего «назначения» гармонизированы. А я бы от себя добавил, что по смыслу это вполне позитивистский подход к пониманию связи культурного и социального факторов прогресса. Конечно, Мендельсон никакой не позитивист и не пытается установить количественную корреляцию между этими явлениями, ему достаточно простой гармонии (in Harmonie), но его просветительский схематизм был радостно принят позитивистами XIX столетия, которые, к сожалению, опошлили эту красивую гипотезу.
Само же образование Мендельсон разделяет на две сферы: культуру и просвещение. Первая восходит к сфере практического опыта, а просвещение – к сфере теоретического разума. И что очень важно, просвещение, по Мендельсону, это не только разумное и здравое познание (vernuenftigen Erkenntnis), он именует его объективным началом в просвещении, но и навыки и умение разумного размышления (Fertigkeit zum vernuenftigen Nachdenken) обо всем, что имеет отношение к общественной жизни и влияет на человеческое предназначение. Что он логически отнес к субъективному началу.
Заключая вступительный фрагмент эссе, Мендельсон вновь акцентирует внимание читателя на главном: «Я всегда определяю назначение человека, как меру и цель всех наших устремлений и усилий, как точку, куда должны быть направлены наши взоры, если мы не хотим потерять самих себя»[7]. Собственно, в этом отдельном абзаце, как мне кажется, и выражена квинтэссенция просветительской мысли, ее телеология, призыв к опоре на разум и к осознанию смысло-жизненного императива человека. В одном из писем своей частной переписки Мендельсон все это обозначил еще точнее: «Просвещение имеет отношение к сфере теоретического, а культура касается морали, социального взаимодействия, искусств, допустимого и недопустимого в поведении»[8]. Казалось бы, общая схема обрисована, базовые понятия прояснены. Но Мендельсон не останавливается на этом, а его мысль далее становится еще прозрачнее.
Язык считывает просвещение через науку, а культуру – благодаря социальным коммуникациям, поэзии, красноречивому слову. Таким образом, язык обретает одновременно теоретическое и практическое пользование, или, иными словами, искомую образованность. Только в этой логике, утверждал, Мендельсон, мы можем говорить об образованности народов. Хотя у одних больше просвещенности, у других – культуры. Древние греки обладали в гармонии и тем, и другим: они самый образованный народ, равно как и их язык. Но на исходе XVIII века, полагал Мендельсон, кто-то обладал больше просвещением, в частности, берлинцы, а кто-то – больше культурой, как, к примеру, китайцы.
Всякий перекос в ту или иную сторону опасен для судеб наций. Перевес в пользу культуры приводит к распространению предрассудков, лицемерия, невежества, А акцент в пользу просвещения ослабляет нравственное чувство, способствует эгоизму, безверию. Впрочем, еще задолго до написания этого эссе Мендельсон в одной из своих рецензий всерьез и весьма метко подметил, что «французы философствуют с иронией, англичане с чувственностью, и только одни немцы предаются философии с необходимой трезвостью и исключительно с помощью своего интеллекта»[9].
Продолжая, Мендельсон вдруг прерывает свое рассуждение о языке и пишет о предназначении человека (Bestimmung des Menschen), различая при этом предназначение как человека (als Mensch) и как гражданина (als Buerger). Эта тема отнюдь не новая для философских дебатов XVIII века, ею пронизана религиозная и философская антропология всего нового времени. Прорывные подходы были разработаны задолго до Мендельсона в трудах Гоббса, Гроция, Пуффендорфа, Локка, Шефтсбери. Но в самом начале речь все же шла преимущественно об «обязанностях» человека и гражданина (officia hominis et civis). Нет сомнения, что Мендельсон был с этими авторами и их сочинениями прекрасно знаком. Но, вероятнее всего, при написании своего эссе о просвещении он опирался больше на сугубо немецкий дискурс, инициированный, как известно, книгой берлинского пастора И.И. Шпалдинга (1714-1804) «Рассуждение о назначении человека» (1748), кстати, тоже члена «Берлинского общество по средам». Его подход строился на сочетании религиозного и морального подходов. А сам Шпалдинг больше известен как просветитель и как церковный деятель, продвигавший идею веротерпимости, за что, правда, в конце 1780-х гг. был отстранен от службы.
Считается, что Мендельсон, равно как и его друг и соратник, немецкий просветитель и философ Томасс Аббт (1738-1766), в своих авторских изложениях этой темы прямо восходят к трактовкам Шпалдинга[10]. Кант впоследствии разовьет эту же тему, но по-своему, принципиально не отойдет от своих немецких предшественников, а просто переведет ее в чисто академическое русло. А вот своего рода философскую черту под просветительскими размышлениями на эту тему подведет Фихте трактатом «О предназначении человека» (1800)[11]. Мне же кажется, что Мендельсон частично пренебрег в своем эссе этими антропологическими подходами и опирался на Шпалдинга и на общеевропейскую традицию естественного права. И в итоге приходит, как может показаться, к совершенно парадоксальным выводам.
Мендельсон утверждает: человек, как человек, не нуждается в культуре, но нуждается в просвещении! Как это понимать? Логичнее же было бы наоборот: человек, как гражданин, нуждается в (гражданском) просвещении! Но нет, Мендельсон не оговорился. Не следует забывать, когда и в каких условиях он жил. Права и обязанности человека, согласно Мендельсону, определяют сословие и профессия (Stand und Beruf). И именно они накладывают свои обязательства по формированию у людей соответствующих навыков, наклонностей, привычек, умений, сноровки и обыкновения следовать общественным нравам. Мера и цель, заложенные в них, регулируются именно культурой. И чем адекватнее культурная «отшлифованность» предназначения человека[12] отвечает на общественные требования, тем больше культуры в нации. Собственно, именно эта семантика была заложена Мендельсоном в словосочетание «культурная нация». Но с одной важной оговоркой. Рассуждая далее, он увязал культуру с необходимостью для гражданина обладать теоретическими познаниями, то есть подвел своего читателя к проблеме просвещения и установил определенную «степень» (или, «градус») просвещенности (Grad der Aufklaerung). Ибо только тогда такое просвещение становится всеобщим (algemein) для человека, как человека, без различий в его сословной или профессиональной принадлежности. И одновременно эта принадлежность вновь обретает значение для человека, как гражданина, ибо здесь мера и цель диктуют устремленность к просвещению личность и целые народы.
Таким образом, мысль логически завершена: просвещение имеет дело с универсальными смыслами, а культуры с их локальной адаптацией. Подобное утверждение стало философским трюизмом в наше время, хотя оно едва ли адекватно сегодня всеми воспринято. Однако во времена Мендельсона вывести это различение в смыслах было отнюдь не тривиальным открытием. Просвещение он трактует как совокупное знание в его отношении к предназначению человека и гражданина, как стартовое и универсальное начало, присущее всем сословиям и профессиям. А «градус» просвещенности напрямую отражает степень просвещенности нации.
Казалось бы, вопрос Цёльнера «Что такое просвещение?» закрыт. Исчерпывающий ответ получен. Но Мендельсон не останавливается и продолжает размышлять: «Просвещение человека и просвещение гражданина могут вступать в полемику (Streit)». Прямо скажем, неожиданно! Отчего же? Потому что гражданские истины и полезные для человека истины отнюдь не одно и тоже, более того – они могут навредить друг другу. И в других своих текстах Мендельсон различал «Buergeraufklaerung» (гражданское просвещение) и «Menschenaufklaerung» (человеческое просвещение), на том же основании: жизненные навыки человека, как человека, могут быть бесполезными или даже вредными ему, как гражданину.
Следовательно, сущностные (wesentlichen) предназначения человека и гражданина могут конфликтовать между собой. «Несчастным является то государство, которое должно признать, что в нем сущностное назначение человека не гармонирует с сущностным назначением гражданина, что просвещение, которое крайне необходимо человечеству, не может распространиться на все сословия империи без того, чтобы конституция не была подвержена опасности быть уничтоженной. Философия, умолкни здесь!»[13]. Итогом становятся правовые ограничения и насилие в отношении человека и гражданина. И, соответственно, наоборот, если конфликтуют случайные, то есть внесущностные (ausserwesentlichen), предназначения человека и гражданина мы наблюдаем схожую картину их противостояния.
Истина не должна разрушать религиозную веру и нравы людей, сколь бы полезной и украшающей человеческое сознание она не была бы. Мендельсон выступает здесь с интересным предостережением: почитающий добродетель просветитель поступает осторожно и осмотрительно, ибо уж лучше смириться с заблуждениями, чем изгнать вместе с ними и саму истину. Этой максимой прикрывалось вековое лицемерие, замечает Мендельсон, и очень часто преступление скрывалось под личиной «святости», но даже в просвещенные времена следовало бы этой осмотрительности все же придерживаться.
Впрочем, очевидно, что под этой рекомендацией в адрес всех просветителей действовать с осторожностью, Мендельсон скрывает свое внутреннее убеждение в том, что универсальная истина вовсе не противоречит национально-религиозным приверженностям (традициям, устоям, обычаям) народов. На этом он настаивал всю свою жизни, и это философское кредо было положено им в обоснование еврейского просветительского движения «Гаскала». Нельзя не признать, насколько изящно он подвел под него философское обоснование.
Завершает свой очерк Мендельсон пронзительным предупреждением будущим поколениям европейцев. И формулирует нечто похожее на социологическую теорему: насколько культура и просвещение «благородны в своем цветении» (edler in ihrer Bluete), настолько же они могут стать «отвратительными в своем тлении и развращенности» (in ihrer Verwesung und Verderbtheit). Сформулировано весьма прямолинейно и очень в духе французского позитивизма XIX века.
Злоупотребление в пользу универсального просвещения ослабляет нравственное чувство и, логически, ведет к эгоизму, анархии, безверию. Злоупотребление культурой – к лицемерию, суеверию, рабству, слабоволию. Следует ли нам удивляться тому, насколько точен этот прогноз, отнесенный в отдаленное будущее. Трудно было тогда на исходе XVIII в. предположить даже саму возможность того, что самый просвещенный народ сможет легко принять идеологию фашизма. А нации, пренебрегшие истиной и занятые культурным самолюбованием, подобно россиянам, погрязнут в государственной коррупции, холопской культуре и бессмысленном нарциссизме.
Просвещение и культура гармонизируют друг друга, их баланс не вечен и очень хрупок. Одно препятствует порчи другого, ибо пути их разложения абсолютно противоположны. Вот почему образованная нация, опирающаяся на то и другое одновременно, преуспевает. Впрочем, и ей надлежит страшиться самого главного, чуть ли уже не проповедуя, пишет Мендельсон, а именно: опасаться излишка собственного блаженства (благополучия). Нация, которая через образование достигла пика, подвержена угрозе «падения», ибо уже не может подняться еще на одну ступень выше. Было ли это его завершающее предупреждение адресовано кому-то конкретно, можно только гадать. Однако как корректно это сформулировано. Именно таковыми представляются нам сегодня внутренние угрозы в потребительском обществе всеобщего благоденствия развитых стран.
Подведу предварительный итог. Версия просвещения по Мендельсону, безусловно, в результате долгой эволюции западной публично-философской мысли стала господствующей. Она, кстати, не была отвергнута романтиками конца XVIII — первой половины XIX века, и, повторюсь, была принята на вооружение позитивистами, начиная с середины того же XIX столетия. И только во второй половине прошлого века стала восприниматься своего рода философским трюизмом.
Мендельсон, по сути дела, примирил просветительский универсализм с национально-культурной идентичностью и именно его мысли и схематизм оказались чрезвычайно привлекательными для многих европейских стран, вставших на путь формирования нации-государства и выстраивавших, подобно России, свои региональные гражданско-просветительские традиции. Правда, чаще всего они при этом забывали о том, что просвещение через познание теоретической мысли Мендельсон считал условно стартовой и универсальной позицией всякого национально-исторического развития. А там, где философская истина к тому же заменялась догматическим и ортодоксальным мышлением (в виде государственной идеологии, например), не удавалось нормально достичь ни одной из целей устремленности человечества к общественному благу и счастью.
Философия Мендельсона давно вышла за пределы движения «Гаскала», более того она была присвоена людьми в историческом познании большинства европейских стран. Печальный опыт французской революции и последовавших войн убедили просвещенных западных правителей в точности и корректности его предупреждений. Примирение просвещения и культуры — шире, чем более узкое «согласие разума и веры» раннего нового времени — стало на долгие десятилетия идейно-политическим ориентиром в старой Европе. И, похоже, в определенных регионах планеты для политиков и элит максима Мендельсона остается в этом странном качестве «путеводной звезды» и по сей день.
Ну и, наконец, последнее замечание. Мендельсон названием своей статьи вроде бы обозначил свое намерение отвечать на вопрос, «что значит просвещать»? Но ни словом об этом не обмолвился. Просветитель – Aufklaerer — появляется в тексте только один раз. И то, как мне кажется, совершенно случайно. Мендельсон озабочен преимущественно сущностью феномена, впрочем, логика просвещения как целенаправленного воспитательного и дидактического процесса из этого легко вытекает. Очевидно, для него все это — задача высшей государственной политики. Иначе не понятно, как просвещение соотносится с предназначением людей, целых поколений и наций. Но в этих вопросах философия не компетентна! И поэтому субъекты просветительства, да и само «таинство» просвещения остались за гранью его внимания. Кстати, многие философы и политики по-прежнему так думают. Так что не будем за это упрекать «немецкого Сократа».
Версия 2.0. Рефлексивное прозрение Канта
Очевидно, что Кант постфактум ознакомился с текстом Мендельсона, но нигде и никогда не обронил о нем и слова. Это молчание можно трактовать по-разному. Но поскольку, судя по его же комментарию, он надеялся на совпадение взглядов, видимо, что-то пошло не так, как хотелось кенигсбергскому философу. А чувство такта и дружеская симпатия к «немецкому Сократу» не позволили Канту полемизировать с ним открыто. Но так ли его версия отличалась от того, что мы со всем тщанием разобрали выше? Мне кажется, что, скорее, да, чем нет. Постараемся в этом разобраться.
К счастью, трактат Канта «Что такое просвещение?» переиздавался по-русски, подробно обсуждался в специальной литературе и, более того, он включен в вузовские программы по истории философии. Что, конечно же, избавляет меня от необходимости рассматривать его детально. И поэтому я постараюсь разобрать его исключительно под углом зрения того, о чем ранее уже написал Мендельсон, чтобы понять, в чем природа конгениальности просветительской мысли, и где она все-таки давала логические сбои.
Моя гипотеза проста: европейский универсализм на заре своего развития представлял собой совсем не монолитный идейный контент в политике и сознании интеллектуалов Запада. А его модельные различия были предопределены, прежде всего, изначальным «молчаливым» расхождением Канта и Мендельсона, представленном широкой публике в том 1784 году. И все же в качестве некоторого напоминания пунктирно обозначу логику и смысловое содержание трактата Канта.
Думаю, что сегодня уже не осталось образованных людей, кто бы ни знал, сколь примечательно начинается трактат Канта. Без разбега с формулировки базового определения: «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться собственным умом»[14]. В этих двух вступительных предложениях все кажется прозрачным и предельно ясным. И, тем не менее, есть необходимость в кратком комментарии к ним.
Немецкое слово Unmuendigkeit (несовершеннолетие) использовано Кантом в данном контексте в лексико-новаторском смысле. Привычное значение к тому времени еще не устоялось. Все-таки «несовершеннолетием» обозначалась в первую очередь возрастная граница, очерчивавшая сословно-правовую и отчасти ритуальную (не)дееспособность. Это важно было для практик наследования, службы в армии, права на женитьбу и т.д. Кант же впервые употребил это слово в сугубо философском значении. Его абсолютно не интересует абсолютный или условный возраст человека, а лишь его состояние ума. Канта в данном случае и не волнуют этапы взросления и обретения человеком «полновозрастного» статуса, он не оперирует вообще никакими количественными данными. Зато отчетливо прочерчивает воображаемую черту между двумя ментальными состояниями, выраженными в сознании и поведении человека. Несовершеннолетний ум, по Канту, не способен пользоваться собственной свободой, ценить и оберегать ее. Причем исключительно «по собственной вине». Мы можем даже усомниться, а ум ли это вообще, если позволяет взрослому человеку оставаться в таком состоянии? Принципиально изменить эту ситуация и перейти воображаемую черту помогает именно просвещение.
Впрочем, говоря о «несовершеннолетии», Кант указывает не только на состояние ума, но и на отсутствие воли, а, может, даже точнее: свободы воли. В несовершеннолетнем состоянии человек принимает чужой авторитет, как руководство в своей жизни, вместо того, чтобы пользоваться собственным умом. Безусловно, Кант конструировал историческую ретроспективу крупными мазками и видел в предшествующих эпохах совершенно иную конфигурацию соотношения ума, воли и авторитета. Ранее люди почти всегда полагались на чужой авторитет (старейшин, властей, церкви, наставников, ученых, медиков), что притупляло их волю к надлежащему включению собственного ума. Просвещение для них открывалось удивительной стороной – принципиальной возможностью эмансипации воли и ума, что в своей совокупности приводит человека к опоре на свободный разум. И способствует становлению автономной личности[15]. Причем, в отличие от Мендельсона, этот разум у Канта был теоретическим и одновременно практического свойства; речь у него идет о чистом мышлении и общественном поведении человека. Мендельсон, напомню, привязывал просвещение лишь к теоретическому знанию.
Девиз просвещения Кант сформулировал кратко: «Sapere aude» (Дерзай знать) — крылатое изречение, заимствованное из «Посланий» Горация (Epistulae I:2, 40). До Канта этой фразой пользовались довольно широко. Известно, что «Общество любителей истины» уже в 1730-е годы размещало этот емкий призыв на титулах своих изданий и на медалях[16]. Вряд ли Кант мог об этом не знать. И уж совершенно точно, он не мог не обратить внимание на этот девиз, вынесенный на титул первого немецкого перевода книги графа Шефтсбери «Характеристики людей, нравов, мнений, времен» (1768)[17].
Французский исследователь Жан-Клод Вийомен недавно убедительно доказал, что принцип «Sapereaude» вообще был общепризнанным эпистемологическим символом и призывом всей эпохи барокко, своего рода расхожим просветительским «словечком»[18]. Воспользовавшись этим популярным «штампом», Кант поступил вполне резонно, ибо апеллировал к чему-то понятному и привычному для своих потенциальных читателей, но при этом дал ему новое звучание. Его заслуга отнюдь не в популяризации латинского изречения, а в подчеркивании с его помощью главного смысла просвещения.
«Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen» («Имей мужество пользоваться собственным разумом») – предложит Кант свою вольную трактовку девиза. Уже в самом начале своего трактата он дает понять читателю, что перейти черту «несовершеннолетия» невозможно, не применив индивидуального старания. А это значит, что ответственность лежит на самом человеке. И, более того, это умственное движение человеку надлежит совершить самостоятельно, хоть и одновременно с другими людьми. То есть просвещение – это намерение, воля, ответственность и усилие каждого и всех вместе. Собственно все это и включается в расширительное толкование свободного разума.
К слову сказать, за полвека до этого в манифесте уже упомянутого берлинского «Общества любителей истины» мы обнаруживаем очень близкие формулировки относительно союза воли и рассудка в деле поиска «общей» истины[19]. Кант же теперь перепривязал их к смыслам просвещения. Строго говоря, и в этом Кант не был первопроходцем, но он, похоже, и не ставил перед собой задачу удивить читателей новаторскими идеями, напротив, он искал те общепринятые в эпоху Просвещения идеи и символы, на которые ему проще было опереться. Мендельсон, как мы помним, пренебрег всей барочной герменевтикой узнавания.
Одному человеку в одиночку трудно выйти из состояния несовершеннолетия, утверждает Кант, полагая, что оно вполне может стать для него «естественным». Оно удобно и даже приятно на первых порах. Однако инструкции и стандарты (Satzungen and Formeln) суть механические орудия разума и приводят к злоупотреблениям. А избавиться от них не просто, вот почему выйти из несовершеннолетия в одиночку удается лишь немногим.
Но ситуация в корне меняется, полагал Кант, когда мы судим не об усилиях отдельного человека, а публики. Он использовал именно это слово «Publikum» (любимое детище европейского Просвещения), ставшее впоследствии понятием довольно широкого применения. Он не написал общество, гражданское общество, нация, народ или что-либо другое, имевшее относительно строгое социально-политическое значение. Он пишет о читающей публике, как воображаемой общности, не тождественной ничему из перечисленного выше. Публика у Канта — исключительная сфера всеобщего публичного разума. И поэтому просвещение публики происходит само по себе, для чего необходимо только одно предусловие: свобода. В публике всегда найдутся свободно мыслящие люди, которые, сбросив с себя «ярмо» (Joch) несовершеннолетия, помогут остальным обрести достоинство и призвание (Beruf) мыслить самостоятельно. Публика достигнет состояния просвещенности, иными словами, сама и постепенно. Ее же «опекуны», насаждавшие ранее предрассудки, сами же от них и пострадают. Ниспровержение старого режима, конечно, возможно революционным образом, но нельзя добиться реформы ума революционным средствами и быстро, на смену старым предрассудкам неизбежно произойдет навязывание новых. Так размышлял вслух Кант.
Вспомним, что и Мендельсон употреблял в своем эссе слово «Beruf», скорее, в современном значении «профессии», Кант же использовал его в исконно лютеранском смысле «божественного призвания». Эти два значения не противоречат друг другу, но как же точно они оттеняют столь важные полутона конгениальной просветительской мысли. Кант не видит просвещение в виде целенаправленной воспитательной деятельности, в этом его принципиальное отличие от Мендельсона, да, впрочем, и абсолютного большинства других мыслителей, живших в его время и позже, кто трактовал просвещение как нисходящий дидактический процесс. У Канта просвещение предполагает вовлечение человека в сферу публичного разума, у Мендельсона – обучение теоретическому знанию. Иными словами, просвещение у Мендельсона – инструментальное, пусть даже еще и не доктринальное, у Канта – самодостаточное и автономное, предполагающее саморазвитие и публичное созревание.
Для кантианского просвещения нужно в качестве базового условия и цели только одно — свобода. Точнее: во всех ситуациях свободно и публично пользоваться (oeffentlichen Gebrauch) собственным разумом. Вместо нисходящего откуда-то сверху-вниз воспитания — только свободное и равноправное рассуждение. Ничего подобного Мендельсон даже и не предполагал. Его просветительская модель была больше «менторской», а кантианская – «резонерская». Оба прилагательных в данном контексте я употребляю в их изначально позитивном значении. Кант использовал слово «Vernunft» для передачи точного смысла «разума, ума, рассудка», а для обозначения публичного действия предложил глагол «raesonnieren» и, тем самым, увязал субъект и действие однокоренной лексикой.
Буквальная русская калька глагола «резонировать» вначале не предполагала ничего негативного, отрицательные коннотации появились в языке лишь в эпоху романтизма, отвергшего ценности классического просвещения. Впрочем, и сегодня слова «резонировать» и «резонер» в русском лексиконе связаны со вполне определенным эмоциональным подтекстом. Поэтому лучше использовать глагол «рассуждать», но надо помнить, что он все же искажает философскую интенцию. «Резонировать» – точнее и адекватнее духу кантианского просвещения.
Публичное рассуждение, как квинтэссенция просвещения, собственно и есть главное рефлексивное откровение Канта. Именно этим он вошел в историю мировой мысли, предложив человечеству универсальный смысл открытости (то есть публичности) и разумности (то есть резонерства). Поэтому, когда он пишет в своем эссе о человечестве (Menschheit), то, скорее всего, не имел в виду весь человеческий род, а лишь ту его часть, которая сознательно и ответственно включается в сферу свободно мыслящей и открыто рассуждающей «публики».
Мендельсон, безусловно, видел процесс просвещение глазами умного, но все же прямолинейного дидаскала, обучающего граждан основам теоретического познания. Кант же только предоставил публике пространство мыслительной свободы, обязав их самих публично использовать свой разум. Из него и только из него, по Канту, рождается всякое разумное начало и его гражданская миссия. Просвещение для него не дидактическое священнодействие, а качественное состояние и направленность публичного ума. Кантовский идеал: резонировать ради самого резонерства. Как бы это ужасно не звучало по-русски, но именно этот точный смысл он имел в виду в момент написания эссе.
Рассуждайте, но повинуйтесь (aber gehorcht)! – продолжает свое размышление Кант. В деонтологической логике Канта гражданское «подчинение» необходимо не только в случаях, когда дисциплинарность условий (к примеру, в армии), общая политика правительства или законы требуют того. Подчинение является необходимым условием в современном институциональном мире. Если есть институциональная норма, ей следует беспрекословно следовать, что, однако, вовсе не отнимает у гражданина права обсуждать саму эту норму публично – ее целесообразность, эффективность, слабые и сильные стороны, достоинства и недостатки. Словом, активно включаться в пространство публичного разума. В этом его свобода и его же гражданский долг.
Там, где человек в интересах практической пользы следует институциональной норме, он полагается на частное использование своего разума, там же, где он остается один на один с «публикой», вступает в силу его право публичного применения разума. И здесь он пользуется неограниченной свободой и правом вещать от своего имени (in seiner eigenen Person zu sprechen). В этом Кант видит ключ к адекватному пониманию прогресса: невозможно удержать человечество от дальнейшего просвещения, желания расширять свои познания, избавиться от ошибок и двигаться вперед. Но как достичь свободы разума в условиях политических ограничений или тем более деспотических? Ответ Канта кажется не совсем простым. Но проникнуться его логикой не сложно.
Процитирую то, как этот своеобразный кантианский общественный договор, красиво переформулировал двести лет спустя Мишель Фуко: «…публичное и свободное употребление автономного разума будет наилучшим ручательством повиновения про том условии, что политическое начало, которому следует повиноваться, будет сообразно всеобщему разуму»[20]. Иными словами, если суверен расположен в отношении истинных, а не мнимых усовершенствований жизни и намерен согласовывать их с гражданским порядком, то лучше позволить самим подданным решать, что они считают нужным делать.
Особо хочу обратить внимание на то, что Кант, так часто рассуждая об освобождении от авторитетов и «опекунов» сознания, на самом деле ни разу не использовал в своем эссе слово «совершеннолетие» (Muendigkeit), а оперировал лишь его негативным дуплетом. То есть за конструкцией «способность пользоваться своим умом» Кант, видимо, предполагал нечто само собой разумеющееся. Ему гораздо важнее было объяснить читателю, что означает «неспособность» как базовый признак умственного несовершеннолетия, и как его преодолеть. Как образная философская мысль это — прекрасная находка Канта. Но вот как строгое научное понятие, судьба «умственного совершеннолетия» так и не сложилась. Она осталась в философской традиции яркой метафорой, идентифицируемой исключительно с самобытным стилем письма и мышления Канта[21]. В современной науке крайне редко используется философское понятие совершеннолетия, обозначающее в первую очередь готовность и способность человека к самоидентичности, независимости и индивидуальной ответственности. Отчасти, я думаю, именно это и имел в виду Кант, но, мне кажется, что и не только это. Размах его мысли был историческим.
Кант не ставил вопроса о Просвещении, как о каком-то историческом периоде. Однако не сделал этого и Мендельсон. Этот нарратив, отталкиваясь от наших героев, создали философы следующих поколений, сконструировав для нас XVIII как законченный исторический цикл со своими смыслами и ценностями, как некий транзитивный период между старорежимной архаикой и новыми временами. И мы до сих пор воображаем себе то столетие как хронологически «завершенную» и свершившуюся по своим историческим задачам эпоху. Но ни Кант, ни Мендельсон так не мыслили свое актуальное время. Более того, оба мыслителя, чрезвычайно чуткие к пониманию исторических перемен, рассуждали нарочито вне конкретного времени.
Кант довольно часто в своих сочинениях обращался к проблематике целенаправленной истории, Мендельсон был серьезно озадачен вопросами всеобщности исторического процесса, из контекста которого европейские евреи не были бы содержательно вырваны. Но в своих очерках о смысле просвещения никто из них не рассматривал свой актуальный хронос как пролог к началу чего-то цивилизационно нового[22]. До 1784 года Кант свою эру именовал по-разному, то «веком критики», то «мыслительным веком», то еще как-то. Просвещение, как историческое время, заиграло в его письменном наследии только после написания этого трактата. А в нем он преимущественно оглядывался назад, пытаясь описать, из какого состояния просвещению надлежит вывести человечество. Собственно, это давало ему повод для серьезной игры словами и значениями.
Кант отвергает понимание актуального времени как «просвещенной эпохи» (aufgeklaerten Zeitalter), ее следует понимать только лишь как «эпоху просвещения» (Zeitalter der Aufklaerung). Мендельсон же, похоже, этой разницы вовсе не чувствовал. Один раз в его трактате появляется словосочетание «aufgeklaertesten Zeiten» (просвещенные времена) без какой-либо исторической привязки, довольно абстрактно, как некогда случавшиеся ранее моменты мировой истории. А эпоха просвещения Канта, в конце трактата он назвал ее гораздо точнее — по имени прусского императора «век Фридриха» (Jahrhundert Friedric[23]), предполагает начало необратимого исторического процесса выхода[24] из умственного несовершеннолетия, что в его рассуждении тождественно только началу просвещения.
Кант завершает свой трактат логической цепочкой, выдержанной в духе всего европейского универсализма. Итак, только просвещенный человек может спокойно сказать: рассуждайте, сколько хотите и о чем хотите, только подчиняйтесь! Ибо отнюдь не в полноте гражданских свобод, а, скорее, в духе народном, природой заложена склонность и призвание человека к свободе мысли. А она в свою очередь воздействует на образ чувствования людей, благодаря чему народ становится более способным к свободе действий (Freiheit zu handeln). И под конец все это неизбежно повлияет на принципы правления (Regierung), когда гражданин вдруг начинает восприниматься властью как нечто большее, чем простой механизм (mehr als Maschine), то есть соответственно его гражданскому достоинству (Wuerde).
Весьма схожим образом рассуждали буквально все сторонники теории общественного договора задолго до Канта. Они исходили из примата незыблемости общественного договора, выступали против революций, а главное, полагали, что просвещенное сознание само способно сделать поведение человека свободным и поэтапно изменит форму политического правления. С высоты истории эта логика кажется наивной и отчасти утопической. Но как бы то ни было, именно так мыслили просвещенные философы XVIII века. Правда, на исходе того же столетия просветительская мысль сперва переживет сокрушительный удар в обличии французской революции, а после этого ее базовые постулаты будут раскритикованы европейским романтизмом. Но не будет отвергнутой философия универсализма, на значимости которой вместе и так по-разному настаивали Мендельсон и Кант.
Мендельсон и Кант: две стороны просветительского универсализма
Оба мыслителя, реагируя каждый по-своему на вопрос «Что такое просвещение?», без сомнения, решали для себя еще и другую важнейшую смысло-жизненную задачу: как понимать значение и актуальность своего личного философского служения. Для чего нужна просветительская философия и как она помогает формированию критически мыслящей личности?
И это понимание, как мы уже выяснили, было у них далеко не всегда совпадающим, наверное, даже лучше сказать: при духовной близости на проверку оказалось дивергентным. То есть они отталкивались от общих историко-гносеологических оснований, но далее двигались отличными идейными путями. Никто из них не считал свои тексты «откровением», но и не предполагал по ним какую-то дальнейшую дискуссию. Оба текста написаны с холистических позиций, как если бы в них содержалось их конечное послание будущим поколениям, а главное – раскрыта «тайна», как западному человеку стать просвещенным и современным[25]. Слагаемые этого нового гражданского этоса у них более или менее одинаковые, а вот рецептура — разная.
К сожалению, нам не известно ничего о реакции Канта на очерк Мендельсона, равно как и наоборот. Мендельсон не оставил письменного свидетельства о своем отношении к ответу Канта. Впрочем, может, просто не успел, так как трагически и внезапно скончался в 1786 году. Я все-так склонен думать, что так совпали обстоятельства их жизни, и они не обмолвились ни словом друг о друге не только из вежливости и доброго отношения. Но вполне вероятно, им просто не хотелось вновь возвращаться к теме, которую, как думал каждый из них, они окончательно закрыли. Но когда сегодня обнаруживается, что большого совпадения в их мысли, увы, не случилось, мы просто обязаны понять, что за этим стоит и какие последствия их дивергентная просветительская мысль имела для будущих поколений европейцев. Учитывая разновекторный характер развития западных стран и России как части европейского Старого Света, в частности.
Для этого я самым кратким образом сформулирую основные тезисы о дивергентности просветительской логики Канта и Мендельсона.
- Кант был убежден в том, что ему удалось создать уникальный философский этос, основанный на принципе свободного применения разума, который был открыт для каждого мыслящего европейца, но не предполагалось затаскивать его туда силком. Сообщество резонирующих граждан, как самостоятельно расширяющееся публичное пространство, есть главный вызов историко-мировоззренческому несовершеннолетию.
- Мендельсон отталкивался от всеобщего характера европейской культуры и политики и полагал, что теоретическое знание предотвратит его дезинтеграцию.
- Кант не был озабочен ни воспитанием, ни образованием, хотя и писал об этом в других своих сочинениях. Его просвещение – резонерское. Он не считал правильной даже саму постановку вопроса об изменении природы человека. Кант был убежден в адекватности институционального «воспитания»: только эффективные институты способны корректно изменить поведение человека, поэтому призывал крепить институты. Главная забота просветителя, по Канту, оберегать пространство свободной мысли.
- Мендельсон, напротив, верил в образование и культуру, и поэтому провел жесткую грань между ними и просвещением. Его философский пафос – не резонерский, а менторский. Он тоже верил в свободную мысль, но полагал, что она вполне может сформироваться в человеке в результате длительного и систематического дидактического воздействия.
- Кант уходил от ответа на вопрос «что надо делать?», полагая, что совершеннолетнему сознанию вовсе не нужно на это указывать. Мендельсон же, напротив, искал простые ответы на этот же вопрос, и поэтому мог дать только один дельный совет: искать гармонию между просвещенностью и культурностью, ибо всякое нарушения баланса между ними будет иметь пагубные последствия.
- Кант – последовательный и прагматичный универсалист, хотя и не дал ни одного «практического» совета европейским властям, кроме призыва к веротерпимости. Мендельсон же был и понятнее и ближе им, несмотря на свои, совершенно чуждые европейским монархам, этно-конфессиональные корни. И он, кстати, не считал, что предназначение человека формируется образованием, оно лишь проясняется, то есть образованный человек способен по-настоящему осознать свое предназначение, в противном случае он живет в непросвещенном неведении.
- Кант отталкивался от космополитической[26] трактовки «секрета» просвещения и исключал возможность разных культурных толкований публичности и резонёрства. Мендельсон, напротив, был убежденным сторонником примирения европейской всеобщности с локальными версиями культуры, то есть синтеза западного универсализма с неевропейской национально-религиозной идентичностью.
- Просветительская философия Мендельсона была мудрой и в целом более понятной для просвещенной власти Запада. Просветительская мысль Канта была глубокой и предельно бескомпромиссной, и, возможно, поэтому для европейской политики так и осталась «вещью в себе».
- Мендельсон инструментален, особенно для стран догоняющего развития. Он решает макрозадачу малых наций, как выжить в универсальном контексте и не потерять себя. Точнее сказать, как сохранить себя и при этом познать и адаптироваться в пространство общеевропейских смыслов. Вслед за ним, не ведая того, двинулись многие европейские народы, что неизменно приводило их в политический тупик. Мендельсон в проевропейском образовании видит, прежде всего, важную оболочку, что было тогда очень созвучно образовательной политике просвещенных деспотий, в том числе и российской, и, по-моему, остается таковой и поныне.
- Мендельсон делает акцент в просвещении на действии, Кант – на внутреннем вызревании, но при соблюдении главного условия: свободы мысли. Мендельсон, подобно Моисею, верил в эффективную направленность длительного воспитательного воздействия. Кант уходит от ответа на вопрос, как случится просвещение, полагая, что никто не может этого знать заранее. Поэтому для Канта важны условия, правила и ценности. Для Мендельсона – просвещенный деятельный субъект, готовый принять и возглавить процесс гражданской пропедевтики.
- Кант был убежден в том, что универсализм – внутренняя сущность, ее нельзя примерить снаружи, ибо это не внешнее свойство людей и сообществ. Поэтому кантовский универсализм – умопостигаемый, а просвещение – умодостигаемое.
- Мендельсону по-человечески близка просветительская формула: как выжить гражданина-человеку в универсальном пространстве. Канту по душе совсем иное: как в этом пространстве достойно жить и считаться достойным гражданином.
- Оба философа одинаково нащупывают объект просвещения, при разнице во взглядах на его предмет. В эссе Мендельсона о субъекте просвещения надлежит лишь догадываться, скорее, он его искал в домене просвещенной власти. Кант же при всем неподдельном уважении к просвещенным монархам своего времени все же считал, что публика сама себя и будет просвещать, если предоставить ей такую возможность и гарантировать свободу мысли и действий.
- Мендельсон не чурался просвещения как инструкции, хоть и не объяснил, как она будет выглядеть и как ей пользоваться. Кант же такой подход к просвещению решительно отверг.
- В итоге, Мендельсон так и не ответил на вопрос, как просвещать, а Кант ушел от вопроса, в чем же его предмет. Форма и содержание общей для них просветительской мысли так и не нашли друг друга.
Какие из исторических наций пошли вслед за Мендельсоном, а какие за Кантом – не сложно догадаться.
Нам только кажется, что европейское просвещение монолитно, на самом же деле у него изначально модельно были обозначены два интеллектуально-политических пути. И оба были удивительным образом сформулированы в том далеком 1784 году.
Если придерживаться строгой морфологии слова «конгениальность» (от лат. «cum» + «genius», то есть «с» + «духом, гением»), то логично было бы задаться вопросом: кто же из героев моего очерка был «с», а кто «гением»? Впрочем, решайте сами. Материал для этого перед вами.