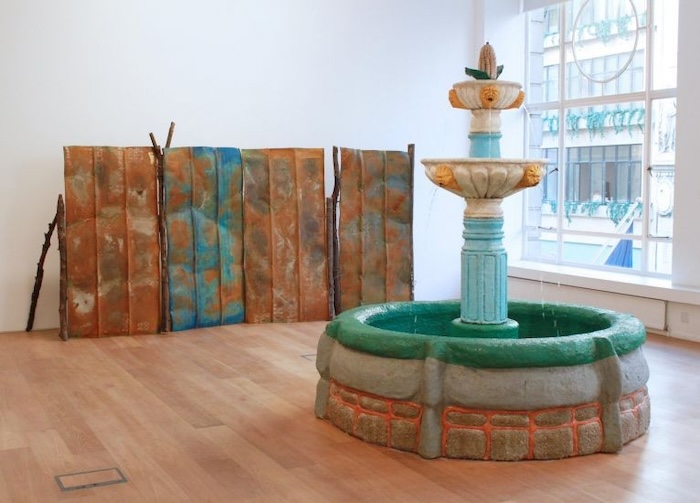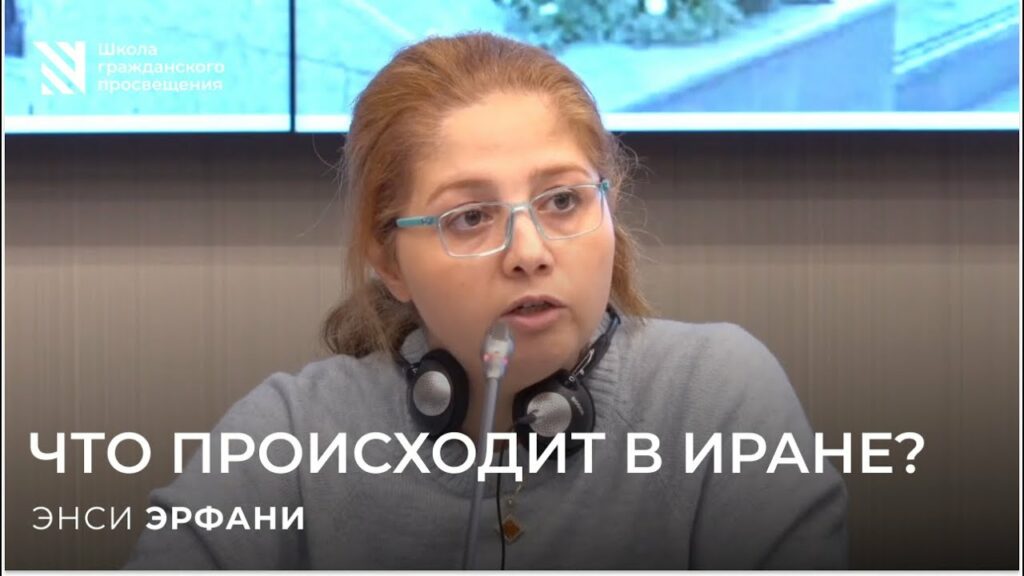Государство, основанное и объявленное тридцать лет назад, 12 июня 1990 года, перестало быть республикой. И развернуло нечто вроде войны против структур гражданского общества. Причем речь идет о своего рода партизанской войне — она ведется рядом структур, среди которых ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратура и, конечно, судебная власть. Есть также идущие у них на поводу добровольные доносчики или попутчики — депутаты Госдумы или так называемые эксперты следственных органов. Эти структуры не могут перейти к политической деятельности, не могут войти в более сильный формат. Но это и есть обычная задача партизанской войны — не победить, а помешать.
Сегодня после принятия так называемых поправок к Конституции, фактически незаконных врезок в нее, Госдума уже развернула подготовку к принятию десятков репрессивных законов. Речь идет об ударе по сотням граждан России, которые гарантированно будут подвергнуты преследованию и обвинены, несмотря на отсутствие фактов. Их карьера будет разрушена, их свобода будет утрачена. Это война, не будем делать вид, что это не она. И мы оказались в этой войне бессильны. Народ России не может эффективно противостоять, поскольку его политическое представительство разрушено.

René Burri, Picasso exhibition, Palazzo Reale, Milan, 1953
И что, собственно говоря, происходит? Как конституционный строй, умеренно авторитарный в свои первые пятнадцать лет — условно между 1990 и 2005 годом — превратился в умеренно людоедский? Как попал в зависимость от группы некомпетентных людей, лишенных стратегии выхода из этого положения и ее не ищущих?
Российское государство было провозглашено и формировалось в предельно необычных условиях — как внутренних, так и внешних. Оно ведь не имело с самого начала никакой собственной миссии. И рассматривалось в период первых лет своего возникновения как, я бы сказал, такой функциональный девайс, причем с противоречивыми функциями. Оно, не имея своего собственного содержания, подражало лозунгам за суверенную Прибалтику и суверенную Армению. Подражательность, имитация была важным свойством и даже возможно мейнстримом всего конца 1980-х годов в Европе. Есть прекрасная книга Ивана Крастева и Стивена Холмса «Свет, обманувший надежды» о эпохе имитаций, которая закончилась рядом катастроф не только в России, но и в Америке, и отчасти в Восточной Европе. Российская Федерация хотела ускорить демократические реформы, безбожно затянутые Горбачевым и защититься таким образом от консервативных союзных структур. Но был и запрос со стороны международного сообщества мира Холодной войны — он исключал независимое поведение составных частей этого мира. СССР Михаила Горбачева резко интенсифицировал свою международную роль, и к 1990 году превратился в генератор мировой реформы, которая, однако, не могла быть проведена ни самим Советским Союзом, что очевидно, но и вероятно не могла быть воспринята западными правителями мира, тем более третьим миром. Получилось, что идущая в стране суверенизация, расшатывающая стабильность Союза, породила сильнейший внешний запрос на роль стабилизатора, способного реализовать некатастрофическое развитие Советского Союза и всей системы мировых отношений.
И так Россия с самого начала получила двойную повестку. С одной стороны, ей требовалось ускорить демократические реформы, то есть взять курс на внутреннее развитие (что было очень трудно, но не невозможно), а с другой стороны — гарантировать стабильность северной Евразии. Второе требование звучало от западных стран, этим было обусловлено признание РФ и помощь ей. Эти две задачи были восприняты, схвачены Ельциным, но при этом они противоречили друг другу. Приняв эти две задачи, РФ фактически изначально обрекла себя на то, что она не решит какую-то из них, а может быть и обе.
Пост президента был придуман Горбачевым для самозащиты — от Политбюро и, в каком-то смысле, от страны, которая пришла в движение. Потом этот пост достался Ельцину, и для него он тоже стал слишком трудной задачей — по сути, это глобальная роль бывшего генерального секретаря, помноженная на общероссийскую легитимность. Президент оказывается носителем вот такой необычной глобально-внутренней роли, он каждый раз может спрятаться в одну роль от другой. Когда надо — выступает как представитель мирового сообщества, когда надо — как суверенный владетель, которого нельзя трогать.
Что произошло с физическим основанием Российской Федерации как республики? Где демократическое большинство, что с ним происходит? В момент провозглашения РФ 12 июня 1990 года существовало советское демократическое большинство. Сегодня это звучит странно, но его можно называть даже советским либеральным большинством. Оно существовало по факту с конца 1980-х годов до начала 1990-х — дальше этот айсберг начал раскладываться, в нем начали появляться платформы, но он все еще сохранял единство. Окончательно он исчез после выборов 1996 года, где он в последний раз ненадолго был склеен. Кто эти люди? Это своего рода мечтательное большинство, потому что оно ждало невероятных благ от конца Советского Союза и президентства Ельцина. Если почитать, как люди представляли себе жизнь в будущем в стране, это вообще ни на что не похоже, даже трудно понять, откуда они все это взяли — это мечта, революционная утопия. Особенность этого большинства, к сожалению, была в том, что оно было социально невежественное — в Советском Союзе не существовало социального знания как такового. И когда произошла катастрофа их образа жизни, это оказалось совершенно неожиданно для них. Некоторые из нас помнят это состояние, эту неожиданность, когда наш страх уравновешивается нашими надеждами и мечтами. Но для большинства людей произошло нечто, чего не могло произойти — они оказались на грани выживания, рухнули основы их повседневной жизни. Именно то, что люди обычно не ожидают потерять, они не являются какими-то особыми оппортунистами: просто мы привыкли что стул, на который мы садимся, не укусит нас за задницу. А тут это произошло неожиданно и никакими экономическими обстоятельствами объяснить это нельзя. Интеллигенция в этой ситуации проявила себя тоже очень слабым участником истории, просто она ничего не могла объяснить, и, в общем, встроилась в хвост бюрократии в этот момент. Появилась небывалая нищета, где-то здесь возник и вот этот самый страх, витальный страх выживания. Люди теряли надежду и умирали.
То, что произошло дальше, я называю коллективной сделкой населения с властью по поводу выживания. Этот период длился около десятилетия и завершился сперва повторным крахом дефолта 1998 года, а потом, как им казалось, чудесным восхождением Путина. Причем эта сделка не являлась никаким общественным договором, власть не договаривалась с населением, власть не фиксировала никакие пункты. Люди получили только одно — гарантию от власти, что они выживут, а власть получает при этом свободу рук.
Harald Sohlberg, Sea Spray, 1908
Почему оппозиция так и не денонсировала эту сделку? Притом, что она уже многократно вела к очень заметным зигзагам в положении людей. За эти тридцать лет лет в оппозиционном секторе сложился постоянно запаздывающий дискурс. Традиция такого описания политики, которая является производной от ее описания властью и не выдвигает альтернативу, не владеет повесткой. В последние десять-пятнадцать лет окончательного изгнания политики эта неспособность описывать политическую ситуацию достигла предела. Но это не было какой-то злонамеренной бедой оппозиции. Оппозиционная речь тоже сложилась из трех составных частей. Это был, во-первых, правозащитный дискурс интеллигенции, унаследованный от Советского Союза и возродившийся в первую кавказскую войну. Правозащитный лексикон важен, проблема только одна: он может поддерживать паническую взволнованность, но им невозможно обсуждать политику и ее альтернативы. Во-вторых, был реформистский дискурс группы Гайдара (и не только), который постепенно сросся с бюрократическим канцеляритом в единую мутацию — даже сегодня на ней отчасти говорит Кремль. Ну и, в-третьих, язык политологии — любую ситуацию он описывает не как политическую, а как типовую, с точки зрения того, как это объясняет политическая наука. Все три языка хороши на своем месте, но непригодны в политике, а когда сливаются вместе, то появляется сообщество людей, которые никогда не могут успеть опередить власть.
Проблема в том, что оппозиция пытается построить повестку на чистом месте, не там, где власть. Она считает, что можно предложить другой ряд пунктов населению и оно выберет между двумя повестками — повесткой власти, которая крайне размыта — и повесткой оппозиции. Здесь возникает феномен, который хорошо известен в политике как сектантство. При сектантстве всегда выходят вперед какие-то инертные вещи, в частности, доминирует правозащитная повестка, но она не может быть обращена к населению как государственная. Повестка оппозиции должна стать государственной, ведь она хочет представлять государство. А сейчас это отдельный клуб. Для меня большим знаком было, когда Илья Азар вышел защищать не своего, не либерала, а руководителя независимого профсоюза полиции. Я не могу предложить сходу, что надо делать, но заранее знаю, что повестка будет частично прогосударственной, общей с властями, которые вам так не нравятся.
Но пока команда Путина законсервировала свое преимущество и превратила его в механизм. Возник этот феномен вечно опаздывающей оппозиции и вечного, как кажется, опережения ее Кремлем. Эта вечность сама по себе тоже очень интересна, потому что молодые люди (и не только молодые), которые помнят, что пятнадцать лет назад ситуация была другой — они все время говорят о вечности Путина. Но это не так. Даже в первое президентство Путина преобладала в общем вполне богатая возможностями и вариантами политика. Другое дело, что все варианты были потеряны.
А тут мы подходим фактически к узловому моменту. Система, которая нам кажется вечной, сложилась молниеносно, в очень нестойкое пятнадцатилетие, где было несколько факторов, которые в отдельности не имели бы решающего значения. Здесь был и харизматический период веры в Путина, и период сверхвысоких цен на сырье. Именно в этот период возникла экономика, которая имитирует государственность. Таким образом, власть которую по внешним признакам легко принять за обычный конформизм, оказывается шарниром довольно экзотической государственности, которая выполняет ту самую прежнюю роль контролера северной Евразии. Вспомните, что когда-то это было изначально новым условием признания новой России. И что же происходит? Все это соединяется вместе.
Здесь одновременно укрепляется и выходит на первый план казавшаяся малозначительной поначалу формула «Россия — правопреемник СССР». Сегодня это существует в медийном и политическом пространстве в таких масштабах, что, кажется, это вообще к нам вернулся Советский Союз. Но это тоже иллюзия. СССР не вернулся и вернуться не может, он является как бы паролем мнимой легитимности этой конструкции по колониальной эксплуатации этой территории северной Евразии.
В данном случае плебисцит — это собственное решение Путина. Это миф Путина, который не объясняет нам ничего о том, как функционирует эта гигантская машина, а внутри нее сформировался и тоже по естественной причине сформировалась власть — условно говоря, власть, которую называют вертикалью или телефонной властью. И есть демонстрационная или имитационная, которая на виду — ее задача быстро сымитировать все, что угодно. Триумфальная победа на выборах, референдум в Крыму, угроза со стороны Запада, величие державы — все эти вещи имитируются одним и тем же аппаратом, который включает в себя и пропагандистские мощности, но это уже не пропаганда, это уже нечто более значительное. И сам Путин является продуктом этого механизма.
Отсюда прямой путь к нынешней так называемой Конституции. Она должна закрепить эту сюрреалистическую многослойную гетерогенную систему, действующую у вас на глазах, не имея на это никаких прав, кроме нашего невмешательства. Россия в этом состоянии не может ни развиваться, ни претерпеть коллапс. Кроме того, после плебисцита исчезает это неуловимое место для выборной драматургии — она не запрещена, не отменена, просто в ней исчезает понятие электорального приза. Раньше вы думали: ну, в этот раз соберу коалицию, создам партию или движение и в следующий раз приду. Теперь система говорит: давай, начинай, будем следить за руками и все, что ты делаешь, будем в тот же момент разрушать, принимая соответствующие законы.
Конечно, после этой команды эта Конституция не просуществует и недели. Это плохо, на самом деле, потому что прежняя Конституция могла бы быть каким-то регламентом переходного периода, а эта не сможет служить таковым. Таким образом нам надо готовиться к острым ситуациям. Я думаю, что будут выделяться все более неконвенциональные группы во власти, потому что даже путинский консенсус исчез. Кто раньше двинется в путь, тот имеет больше шансов выжить.
Впрочем, я думаю, что несмотря ни на что, в России сохраняется какая-то перспектива, какая-то внутренняя движущая мечта не об империи, не о государстве, не о сверхдержаве, а об открытом миру российском государстве.
Расшифровка (с редактурой и сокращениями) беседы в рамках онлайн-программы Школы гражданского просвещения. Записала Наталья Корченкова
Что еще почитать:
Глеб Павловский, Иван Крастев / Экспериментальная родина
Иван Крастев, Стивен Холмс / Свет, обманувший надежды