После завершения холодной войны в 1989 году казалось, что либеральные демократии установятся в западном мире навсегда. Но два с половиной десятка лет спустя оказалось, что ситуация складывается совершенно иначе. После Брекзита и победы Трампа на американских выборах наступила новая эпоха, которую в современной историографии уже называют «эрой популизма». Как популизм связан с прошлым и что сделать, чтобы справиться с ним в будущем, рассказывают историк Диана Пинто и политолог Доминик Моизи.

Диана Пинто: «Желание превосходства белой расы никуда в США не ушло. И оно не связано исключительно с Трампом»
Содержание
Популизм во всем мире уничтожает конвенции, негласные правила, неписаные законы, которые, казалось бы, лежат в основе наших обществ. Он самым непосредственным образом связан с искаженным восприятием национального прошлого. Можно сказать, что популизм — это прошлое, которое возвращается, мстительно упиваясь собой. Я приведу пример — очень провокационный — двух стран: Великобритании и США. Великобритания считается золотым стандартом демократии, восходящим к Средневековью. Между тем, в этой стране сейчас разворачивается не только политический кризис, но и более глубинные драматические истории. Нам страшно надоели перипетии в британской политической драме, именуемой Брекзитом. Мы постоянно сталкиваемся с риторикой вражды, неразрешенными вопросами, связанными с государственным правом и взаимоотношениями между ветвями власти. Опасность нависла и над унией Англии и Шотландии, образующей Соединенное королевство.
Другой пример, колосс современной демократии — США. Американцы часто сами говорят: да, рабство было печальной страницей нашей истории, но после гражданской войны темнокожие прошли через эмансипацию. Однако фактически желание превосходства белой расы никуда в США не ушло. И оно не связано исключительно с Трампом — он просто вытаскивает на свет божий эти страшные марионетки. Неприятие или враждебное отношение к эмигрантам было присуще истории США в течение нескольких столетий: сначала там ненавидели немцев, потом ирландцев, восточных европейцев, евреев, скандинавов. Эта проблема сохранялась даже во время президентства Барака Обамы. Он не был в классическом понимании чернокожим президентом: во-первых, он сын африканца, а не потомок афроамериканского раба, во-вторых, у него белая мать из семьи американских плантаторов-рабовладельцев. Так что проблемы, которые были присущи США на протяжении трех столетий, лишь вышли на поверхность с большей и драматической силой.
Мы можем притвориться что прошлое ушло, но на самом деле оно держит в своем плену множество стран. В Испании мы видим это на примере Каталонии, на примере мавзолея Франко и жесточайших дебатов, которые проходят вокруг его перезахоронения (см. историк Сергей Медведев о «войнах памяти»). В Венгрии до сих переживают последствия передачи двух третей территории Румынии и Словакии. В Польше до сих пор стоит вопрос о том, насколько от ужасного прошлого пострадали евреи, а насколько — поляки. Вновь на повестке дня ощущение исторического недоразумения, унижения, антипатии, неприязни и всех этих скелетов, выходящих из шкафа. В России аналогичная ситуация: слова Владимира Путина о том, что распад СССР это «величайшая геополитическая катастрофа», полностью игнорирующие гибель миллионов людей в XX веке, наглядно иллюстрируют, как прошлое возвращается с мстительной яростью. Наконец, заложником одного из тяжелейших опытов прошлого столетия стала Германия. Мы видим целые пласты мифологем самовосприятия немцев. Вопросы, в какой мере эти идентичности смогли прийти к примирению с собственным прошлым, в какой мере либеральному западу удалось вернуть Германию в лоно цивилизованных народов, остаются открытыми.

Когда мы убираем с глаз долой все скелеты собственной истории, не слушаем друг друга, отказываемся обсуждать сложные вопросы, предполагая, что прошлое станет просто сказкой, вдруг мы видим его возвращение — бумерангом, рикошетом. Я помню, в 1960-е годы когда я учила немецкий, я слышала мнения, которые высказывали многие немцы: «о да, Гитлер скверно поступил с евреями, но он же построил автобаны, скоростные шоссе». Я думала, эти люди умрут и никто не будет об этом помнить, нацизм отойдет в прошлое как дурная тень. Но если сейчас не научиться различать преступное и добродетельное, мы можем вернуться как раз к таким доводам. В конце 1990-х в Берлине проходила огромная выставка, посвященная искусству Западной и Восточной Германии до и после нацизма. Ее кураторы приняли решения не вешать на одной стене экспонаты, относящиеся к XIX веку, и картины, скажем, 1932 или 1937 годов — точно так же, как в музеях порнографические картины вывешивают в отдельном зальчике, чтобы туда не водили пятилетних детей. Контекст играет огромную роль.
Как не стать заложником собственного прошлого? Это сложный вопрос, подразумевающий формирование гражданского общества и гражданской ответственности. Необходимо, чтобы честные беспристрастные историки были выслушаны, а журналисты не боялись за собственную жизнь. Необходимо умение и смелость говорить об исторических событиях с детьми, пытаться не предпринимать попыток узурпировать свою версии истории. Необходимо помнить, что далеко не все во Франции были в Сопротивлении, далеко не все в Италии выступали против Муссолини, далеко не вся история наша триумфальна, и да, зачастую нам приходится ее стыдиться.
Доминик Моизи: гнев, страх и ностальгия и другие эмоции «эры популизма»
В 1989 году мне казалось, что я присутствую при деконструкции существующего мирового порядка. Это было нашей мечтой на протяжении десятилетий; тогда казалось, что все косточки домино складываются в верном направлении. Но сегодня, увы, есть соблазн думать иначе. Посмотрите, что происходит в Бразилии при режиме Болсонару, или в США при президенте Трампе, или в Великобритании, где премьер-министром стал господин Джонсон.
Согласно общепринятой сегодня хронологии, мы вошли в третью фазу после Второй мировой войны. Первая фаза началась в 1945-1947 годах и продолжалась до 1989 года, это был период холодной войны. Вторая фаза — 1990-2016 годы — это период либеральной демократии. Наконец, с 2016 — после Брекзита и победы Трампа — мы вошли в третью фазу, которую принято обозначать как «эру популизма».
Впрочем, мне самым важным феноменом сейчас представляется не популизм, а холодная война между США и Китаем. В отличие от холодной войны между США и СССР в 1945-1989 годах, которая была войной паритетных держав только до тех пор, пока Советский Союз был состоянии продолжать гонку вооружений, новая война более сбалансированная. США нужен Китай, но не был нужен Советский Союз: настолько велик был разрыв между военной мощью и экономической состоятельностью Советского Союза. Кроме того, впервые в истории нового времени дуэль на вершине этой пирамиды проходит не между западными державами, и одна из этих держав движима не идеологией, а желанием вновь стать первой цивилизацией. Китай — это не новая великая держава, это воспрявшая великая держава, полная самоуверенности — точно так же, как себя ощущал Советский Союз.
Наблюдаем ли мы конец демократического либерального миропорядка? Или мы с такой же опрометчивостью, как некогда Фрэнсис Фукуяма сказал о конце истории, говорим, что сегодня, в 2019 году, мы наблюдаем конец демократии? Мне кажется, что оба этих утверждения преувеличены. Для того, чтобы понять, что стоит сегодня перед миром либеральных демократий, нужно разобраться в истоках популизма, в его смысле и слабых сторонах.
Идеология популизма основывается на манихейском взгляде на культуру, это стиль обращения с обществом, который подразумевает, что народы правы, а элита заблуждается. Популист — это человек, который дает упрощенные ответы на сложные вопросы. Он не принимает сложности, многосоставности мира, у него нет стремления к разностороннему взгляду на вещи.
Уже более двух десятилетий я пытаюсь проанализировать геополитическую ситуацию через призму эмоций. И в связи с популизмом я вижу три ключевых эмоции. Во-первых, гнев, безусловно, направленный на элиту — интеллектуальную, экономическую, политическую: «вы нас предали, вы нам лгали, вы совершенно недееспособны, вы не оправдали наше доверие, все привилегии, которыми мы вас наделили, более недействительны». Общество разъедаемо безработицей, долговым бременем, а элита не просто некомпетенетна, но и подвержена коррупции, она теряет свою легитимность. Во-вторых, страх как социально-экономическое измерение: «я не только нищ и беден, но и теряю свою идентичность, полагая, что существуют иные агрессивные враждебные мне силы, которые захватывают сегодня общество». Наконец, в-третьих, более сложное понятие — ностальгия. Мне кажется, что сегодняшнему политическому процессу вообще в значительной степени присуща ностальгия по иному миру — миру, где Запад был центром вселенной, где белый человек был безусловно принят в качестве первой превосходной расы. Такая ностальгия по 1950-60-м годам в США или по XIX — началу XX века в Великобритании, безусловно, играет роль в росте популистских настроений.
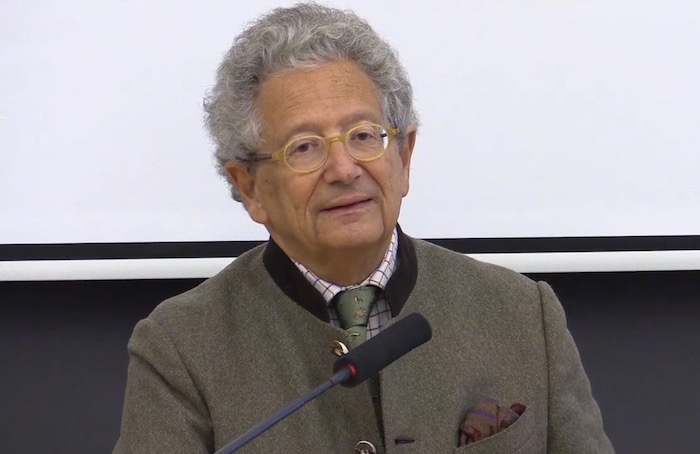
Но вместе с тем демократические институты оказались более стойкими, чем казалось. Я отчетливо помню, как накануне президентских выборов во Франции в 2017 году мне позвонил один из ведущих NPR, крупнейшей американской радиостанции, и предложил выйти в эфир, если если госпожа Ле Пен будет избрана президентом. Я сказал: «Безусловно, но только если позволите мне комментировать мне победу Макрона, потому что мадам Ле Пен не имеет никаких шансов». «Какое высокомерие, почему вы так в этом уверены»,— сказал ведущий и повесил трубку. Я стал думать: а почему интересно, после Брекзита, для многих в США победа мадам Ле Пен выглядела как очевидное следствие? И вспомнил статью в Financial Times о том, что «Франция может стать оазисом демократической надежды в море англосаксонского отчаяния».
Я вижу внутреннюю слабость популизма в том, что у них нет единой платформы. Невозможно представить, что популисты создадут свой интернационал. Потому что популисты стоят в авангарде национализма. Они попросту не могут объединиться. Мы даже не видим оформленного лидерства в этих движениях, потому что они совершенно не скоординированы. И это одна из причин, по которой Марин Ле Пен, на мой взгляд, потерпела решительное поражение в противостоянии с господином Макроном.
Роль ценностей значительно уменьшается. Мы можем быть отделены от США, но мы являемся членами одной семьи, у нас одинаковые демократические ценности. Когда мы чувствуем угрозу извне от новой биполярности и угрозу внутри из-за усиления позиций популизма, для того чтобы защитить демократию, нам нужно защитить то, чем мы являемся. Можем ли мы получить место за столом большой власти? Да, можем, если мы будем объединены. Или мы просто сдадимся и согласимся со своим местом в чьем-то меню. Китай уже смотрит на нас, как будто мы — пункт в их меню.
Записала Наталья Корченкова
Что еще почитать:
Доминик Моизи / Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир




